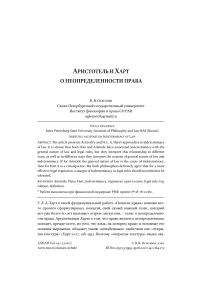Аристотель и Харт о неопределенности права
Автор: Оглезнев Виталий Васильевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.14, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются подходы Аристотеля и Харта к неопределенности права. Показано, что и у Харта, и у Аристотеля неопределенность связана с общим характером права и правовых установлений, но трактуют они эту связь по-разному, равно как и по-разному они трактуют причины общего характера права и неопределенности. Если для Аристотеля общий характер права - это причина неопределенности, то для Харта - это следствие. Но оба мыслителя, определенно, сходятся в том, что для более эффективного правового регулирования минимум неопределенности правовых правил все-таки должен допускаться.
Аристотель, платон, харт, неопределенность, нечеткость, открытая текстура, правовое правило, законодательство, определение
Короткий адрес: https://sciup.org/147215860
IDR: 147215860
Текст научной статьи Аристотель и Харт о неопределенности права
* Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-78-10082.
Г. Л. А. Харт в своей фундаментальной работе «Понятие права» помимо всего прочего сформулировал, пожалуй, свой самый важный тезис, который вот уже более 60 лет вызывает острые дискуссии, – тезис о неопределенности права. Аргументация Харта о том, что право является неопределенным, исходит, прежде всего, из того, что язык, на котором право и основные его понятия выражены, обладает таким «неизбежным» свойством как «открытая текстура» (Харт 2007, 128–139). Поэтому «открытая текстура» языка ока-
ΣΧΟΛΗ Vol. 14. 1 (2020)
зывает существенное влияние не только на правотворчество, но и на применение правовых правил, понятий или выражений. Для понимания природы права этого нельзя не учитывать. Юриспруденция, по мнению Харта, долго ошибочно считала, «что правовые понятия являются фиксированными или закрытыми в том смысле, что их можно исчерпывающим образом определить с точки зрения набора необходимых и достаточных условий; так что для любого реального или воображаемого случая можно с уверенностью сказать, подпадает ли он под понятие или нет; понятие либо применимо, либо нет» (Hart 1983, 269). Напротив, «все правовые правила и понятия являются “открытыми”; и когда возникает непредвиденный случай, мы должны совершать новый выбор, и при этом разрабатывать правовые понятия, приспосабливая их к общественно желаемым целям» (Hart 1983, 270). Неопределенность права, таким образом, в трактовке Харта происходит от «открытой текстуры» естественного языка.
Право является неопределенным, потому что неопределенными являются и правила, из которых оно состоит, и общие понятия, в которых оно выражено, включая понятие самого права. При таком подходе, который сильно напоминает утверждение Аристотеля, что «для неопределенного и правило неопределенно» ( Никомахова этика 1137b30; пер. Н. В. Брагинской), неопределенность права, во-первых, заключается в том, что мы не можем дать исчерпывающего определения правовым понятиям посредством установления необходимых и достаточных условий их применимости (Харт 2017, 29–30, 35), а во-вторых, в том, что всегда могут появиться непредвиденные обстоятельства, которые не были учтены, когда правила формулировались: «Свойством используемых человеком (в том числе и в законодательных целях) логических категорий является то, что какие бы мы ни находили способы урегулировать, недвусмысленно и заранее, некоторую сферу поведения посредством общих образцов, которые использовались бы без дальнейших официальных указаний в конкретных случаях, – мы не можем избежать двух недостатков: первый – это наше относительное незнание фактов; второй – наша относительная неопределенность касательно цели» (Харт 2007, 132).
Харт так объясняет эти недостатки. То, что мы не можем дать исчерпывающего определения общим правовым понятиям связано с тем, что они обладают «открытой текстурой». Так происходит потому, что понятия юридического языка (равно как и естественного языка) иногда отклоняются от нормального или обычного употребления, что порождает проблему «пограничной зоны неясности» и двусмысленности их значения (Харт 2007, 127, 138). Основная причина – это наша неуверенность относительно стабильно- сти значения понятия. Если в своем ядре понятие четко определено, то, когда мы двигаемся от ядра к периферии, границы понятия как бы размываются и становятся неясными. У нас уже нет той уверенности в стабильности значения понятия, когда мы рассматривали стандартный, ясный случай его употребления. Значит, в любой правовой системе наряду со стандартным использованием правил всегда возникают проблемные ситуации, с неизбежностью порождающие судейское усмотрение и судебное правотворчество. А то, что мы не можем обладать знаниями обо всех возможных комбинациях обстоятельств, которые может преподнести будущее, и поэтому не можем их предвидеть, влечет за собой относительную неопределенность и неясность цели правового регулирования. Но несмотря на эти недостатки, «открытая текстура» правовых понятий, по мнению Харта, должна рассматриваться скорее как преимущество, чем недостаток, в том смысле, что она позволяет разумно истолковать правила в тот момент, когда они применяются в ситуациях и проблемных случаях, которые их создатели не предвидели или не могли предвидеть (Харт 2007, 132–133).
Э. Харрис верно замечает, «анализ Харта “открытой текстуры” хотя и является весьма утонченным, его основной вывод не такой уж оригинальный» (Harris 2000, 28). Идея о том, что закон должен состоять из общих предписаний, восходит к Платону и Аристотелю. В диалоге «Политик» Платон сравнивает законодателей с учителями гимнастики (инструкторами), которые «не считают уместным вдаваться в тонкости, имея в виду каждого в отдельности, и давать указания, что полезно для тела данного человека; наоборот, они думают, что надо более грубо и приближенно давать наказы так, чтобы они в целом приносили пользу телам большей части людей» (Политик 294e; пер. С. Я. Шейнман-Топштейн). Аналогичным образом, законодатель, «дающий приказ своему стаду относительно справедливости и взаимных обязательств, не сможет, адресуя этот наказ всем вместе, дать точные и соответствующие указания каждому в отдельности… Он издаст законы, носящие самый общий характер, адресованные большинству, каждому же – лишь в более грубой форме» (Политик 295a; пер. С. Я. Шейнман-Топштейн). По мнению Платона, так происходит потому, что «закон никак не может со всей точностью и справедливостью охватить то, что является наилучшим для каждого, и это ему предписать» (Политик 294b; пер. С. Я. Шейнман-Топштейн). Поэтому неопределенность законов приводит а) к негибкости и косности всяких законов; б) к неспособности закона войти в частности и невозможности в законодательном порядке предусмотреть всю жизнь человека; в) к неизбежности сметы всякого закона при изменении обстоятельств (Лосев 1994, 703–704). Аристотель в «Политике» также отмечает, что «закон должен властвовать над всем; должностным же лицам и народному собранию следует предоставить обсуждение частных вопросов» (Политика 1292a30; пер. С. А. Жебелева), и добавляет, что «правильное законодательство должно быть верховной властью, а должностные лица – будь это одно лицо или несколько – должны иметь решающее значение только в тех случаях, когда законы не в состоянии дать точный ответ, так как не легко вообще дать вполне определенные установления касательно отдельных случаев» (Политика 1282b10; пер. С. А. Жебелева). В «Никомаховой этике» эта идея уточняется и развивается: «Всякий закон [составлен] для общего [случая], но о некоторых вещах невозможно сказать верно в общем [виде]. Поэтому в тех случаях, когда необходимо сказать в общем виде, но нельзя [сделать это] правильно, закон охватывает то, что [имеет место] по преимуществу» (Никомахова этика 1137b15; пер. Н. В. Брагинской).
Но идея неопределенности законов (нечто напоминающее «открытую текстуру» права Харта) подробно рассматривается Аристотелем в «Риторике», где он указывает на важность ее устранения в законодательстве и судебной практике: «Поскольку часто люди, признаваясь в совершении некоторого поступка, не признают определения этого поступка или того, к чему относится это определение: например, “взял”, но не “украл”, “первый ударил”, но не “нанес оскорбление”, “состоял в связи”, но не “прелюбодействовал”, “украл”, но не “святотатствовал” (раз похищенное не принадлежало богу), возделал “чужое поле”, но не “общественное поле”, “находился в сношениях с врагами”, но не “совершал измены”, – постольку, имея в виду подобные случаи, следует определить, что такое “кража”, “оскорбление”, “прелюбодеяние”, чтобы быть в состоянии выяснить истину, хотим ли мы доказать, что что-либо было или чего-либо не было» (Риторика 50; пер. О. П. Цыбенко). Законодатели, по мнению Аристотеля, намеренно не раскрывают содержание таких понятий, поскольку «они не могут дать определения какому-то отдельному случаю, потому что их определения должны высказываться в общем и не относительно отдельного случая, но о том, что случается по большей части и что нелегко определить в силу беспредельного числа случаев» (Риторика 50–51; пер. О. П. Цыбенко). Поэтому, заключает Аристотель, если «неопределенность остается, а вместе с тем установить закон необходимо, следует давать общие определения» (Риторика 51; пер. О. П. Цыбенко). В частности, по этой причине Аристотель считает, что законы Афин часто не были написаны просто и ясно для того, чтобы «в общей форме выразить наилучшее» (Афинская полития 9.2; пер. С. И. Радцига). Уточнять содержание таких понятий, по мнению Аристотеля, должны судьи, которые обладая широкой свободой в вопросах толкования закона, «не подчиняются никому и ничему, кроме своей клятвы» (Mirhady 2006, 16; см. также Könczöl 2016, 324–326). Харт также приходит к выводу, что поскольку «законодатели – это люди, а не боги; они не могут иметь столько знаний обо всех возможных сочетаниях обстоятельств, которые может преподнести будущее» (Харт 2007, 132); «особенностью затруднительного положения человека, не только законодателя, но и любого другого, пытающегося регулировать какую-либо сферу поведения с помощью общих правил, является то, что он страдает от одного важного недостатка – невозможности предвидеть все возможные комбинации обстоятельств, которые может преподнести будущее. Бог мог бы все это предвидеть; но ни один человек, даже юрист, не может этого сделать» (Hart 1983, 269–270).
И у Харта, и у Аристотеля неопределенность связана с общим характером права и правовых установлений, но трактуют они эту связь по-разному. Прежде, чем перейти к вопросу, каким образом эта связь устанавливается, следует рассмотреть, какой вид неопределенности каждый из них имеет в виду. Воспользуемся для этих целей классификацией определений неопределенности, предложенной Н. Отакпором (Otakpor 1988, 112–113):
-
(1) P является неопределенным, если P не заканчивается.
-
(2) P является неопределенным, если P не является фиксированным, является нечетким или неопределимым, или не имеющим фиксированного значения.
-
(3) P является неопределенным, если P не может быть уточнен или урегулирован, особенно в ситуации спора, в котором P является неясным.
-
(4) P является неопределенным, если P точно не обозначен.
-
(5) P является неопределенным, если P невозможно определить заранее.
С точки зрения семантической специфики, автор классификации предлагает объединить определения (2)–(5) в одну форму: (6) P является неопределенным, если P специально не разработан, поэтому невозможно определить P заранее, и в этом случае P является неуточненным, неурегулированным, неясным, нечетким или не имеющим фиксированного значения. Обоснованием такого объединения является тезис, что любой, кто верит, что P является неопределенным, и что достаточным условием такой веры является понимание выражающего его предложения или ситуации, которая это подтверждает, несомненно, поверит в то, что P точно не обозначен, что P является неустановленным, неурегулированным и неясным, или что P является нечетким, неопределимым и не имеющим фиксированного значения, или все вместе взятое. Но при таком подходе предложенная классификация неопределенности становится тривиальной, поэтому ее расширение посредством добавления определения (6) является излишним, а аргумент автора несостоятельным. Сложность этой классификации, которая является одновременно ее преимуществом, состоит в том, что в ней заключены различные оттенки английского слова «indeter-minacy», передать на русский язык которые не всегда удается. Но именно эти оттенки позволяют уловить нюансы значения «неопределенности» и лучше понять само это явление. Похожую ситуацию описывает Дж. Уолдрон: «В философской литературе двусмысленность отличается от оспоримости, а оба эти термина – от нечеткости. Если нам нужен общий термин, охватывающий эти три понятия, мы можем использовать “неопределенность” (indeterminacy)» (Waldron 1994, 512).
Учитывая рассмотренные выше аргументы Аристотеля и Харта, можно сказать, что у первого неопределенность понимается скорее в терминах определения (5), а у второго – в терминах (1) и (2). Конечно, это утверждение весьма условно. Харт, например, в своих исследованиях часто использует такие понятия как «двусмысленность», «неясность», «неопределенность», «нечеткость», не объясняя при этом, как эти понятия соотносятся, отмечая лишь, что все они каким-то образом связаны с «открытой текстурой» юридического языка и права. У Аристотеля неопределенность связана с общим характером права, но эту связь нелегко проследить. Общий характер права – это крайне двусмысленная категория. На эту двусмысленность обращает внимание В. фон Лейден, которая, по его мнению, «заключается в том, что “общий” может означать, помимо всего прочего, либо общий для всех или универсально применимый, либо неопределенный, расплывчатый или нечеткий» (Leyden 1967, 3–4). Аристотель не говорит о том, какое значение слова «общий» он имеет в виду. Если под словом «общий» подразумевается применимость ко всем, то используемый здесь принцип универсальности может выступать основанием для требования универсальности моральных и правовых суждений. Аналогичным образом, слово «общий» может относиться к вневременному присутствию определенных неизменных принципов или сущностей, как например, в математике, или к чему-либо еще, что не требует временного подтверждения. Следовательно, «общий» может означать универсальный или неизменно истинный. Но, с другой стороны, «общий» может означать, по словам Аристотеля, то, что «решение законодателя не подразумевает отдельный случай, но относится к будущему и имеет характер всеобщности» (Риторика 6; пер. О. П. Цыбенко). Но так или иначе, «по крайней мере, часть того, что Аристотель имеет в виду, когда говорит, что верховенство закона является (все)общим, заключается в том, что на него не влияют страсти и личная неприязнь… Следовательно, будучи обезличенным, закон может претендовать на то, чтобы быть чем-то объек- тивным и нетленным» (Leyden 1967, 8–9). Общность, основанная на самой природе закона, как таковая не отменяется в силу того факта, что могут возникнуть ситуации с непредвиденными обстоятельствами, которые не были предусмотрены законом. Точка зрения Аристотеля заключается в том, что общее требование права до тех пор будет иметь юридическую (обязательную) силу, пока условия, при которых оно применяется, будут общими. Иначе говоря, из того, что в исключительных ситуациях общее правовое правило может оказаться необязательным к применению, не следует, что оно тем самым теряет свою юридическую силу, в отличие от тех ситуаций, которые явно под это правило подпадают. Здесь важно учитывать, что Аристотель, в отличие от Харта, когда говорит о неопределенности, имеет в виду, прежде всего, неопределенность писанного закона, который следует отличать от неписанного, и именно в этом смысле последний справедлив вопреки первому: «добро есть право, однако право не в силу закона, а [в качестве] исправления законного правосудия» (Никомахова этика 1137b15; пер. Н. В. Брагинской). Харт же не проводит такого четкого разделения между законом и правом, и поэтому рассматривает, исключительно, неопределенность права и правовых правил (Оглезнев, Суровцев 2014).
Аристотель и Харт также по-разному трактуют причины общего характера права, а значит, и неопределенности. Для Аристотеля эти причины, в отличие от Харта, не имеют логического или теоретического характера, для него это – моральные и политические причины. По мнению Дж. Вега, политические, институциональные причины установления общих правил, согласно Аристотелю могут быть оправданными тогда, когда эти правила реально продвигают основополагающие причины, лежащие в их основании. В противном случае они должны быть либо отклонены, либо исправлены посредством внесения изменений (Vega 2013, 17). «Таким образом, – пишет Дж. Вега, – правовые нормы представляют собой морально и политически обоснованные общие правила. Это единственный способ, с помощью которого формальная всеобщность может быть разумным критерием рациональности в сфере практической деятельности. Верховенство права посредством закона вообще невозможно без аксиологической преемственности между законодательством и вынесением судебного решения. … В этом и состоит разумное объяснение epieikeia : устранение возможных несоответствий или аксиологических разрывов, к которым приводит применение правил в социальной практике» (Vega 2013, 21).
Таким образом, если для Аристотеля общий характер права – это причина неопределенности, то для Харта – это следствие. По мнению Харта, законодатель формулирует правовые правила предельно общим образом пото- му, что неопределенность, возникающая в следствие «открытой текстуры» языка, не позволяет средствами языка предусмотреть в правиле все возможные ситуации употребления, используемых в нем понятий и терминов. Но оба мыслителя, определенно, сходятся в том, что минимум неопределенности правовых правил должен допускаться и даже, по словам Харта, «приветствоваться для того, чтобы, когда известен состав непредусмотренного правом случая, можно было четко определить вопросы, подлежащие рассмотрению, и тем самым вынести по ним обоснованное судебное решение» (Hart 1994, 251–252).
Список литературы Аристотель и Харт о неопределенности права
- Доватур, А. И., Кессиди, Ф. Х., ред. (1983) Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 4. Москва.
- Лосев, А. Ф., Асмус, В. Ф., Тахо-Годи, А. А., ред. (1994) Платон. Собрание сочинений в
- четырех томах. Т. 4. Москва. Лосев, А. Ф. (1994) «Космологично-политическое учение о законе как завершение платоновского идеализма в диалоге "Политик"», Лосев, А. Ф., Асмус, В. Ф., Та-хо-Годи, А. А., ред. Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. Москва, 701-712.
- Оглезнев, В. В., Суровцев, В. А. (2014) «Правила, юридический язык и речевые акты», ЕХОЛН (Schole) 8, 293-302. Радциг, С. И., ред. (1937) Аристотель. Афинская полития. Москва. Сычев, О. А., Пешков, И. В., Петровский, Ф. А., ред. (2000) Аристотель. Риторика. Поэтика. Москва.
- Харт, Г. Л. А. (2007) Понятие права, пер. с англ. под ред. Е. В. Афонасина и С. В. Моисеева. Санкт-Петербург. Харт, Г. Л. А. (2017) Философия и язык права, пер. с англ. под ред. В. В. Оглезнева и В. А. Суровцева, Москва.