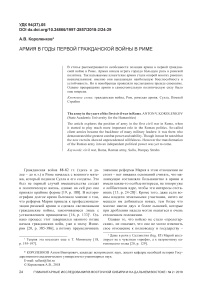Армия в годы первой гражданской войны в риме
Автор: Короленков Антон Викторович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Vita memoriae. К 100-летию исторического образования на Дальнем Востоке
Статья в выпуске: 2 (44), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности позиции армии в первой гражданской войне в Риме. Армия начала играть гораздо большую роль в римской политике. Так называемые клиентские армии стали опорой многих римских военачальников: именно они выказывали наибольшую боеспособность и устойчивость. Но и новобранцы проявляли неслыханное прежде своеволие. Однако превращение армии в самостоятельную политическую силу было еще впереди.
Гражданская война, рим, римская армия, сулла, помпей страбон
Короткий адрес: https://sciup.org/170175850
IDR: 170175850 | УДК: 94(37).05 | DOI: 10.24866/1997-2857/2018-2/24-29
Текст научной статьи Армия в годы первой гражданской войны в риме
Гражданская война 88-82 гг. (здесь и далее – до н.э.) в Риме началась с военного мятежа, который подняли Сулла и его солдаты. Это был не первый случай вмешательства солдат в политическую жизнь, однако на сей раз оно приняло крайние формы [19, p. 188]. В историографии долгое время бытовало мнение о том, что реформа Мария привела к профессионализации римской армии и сделала «возможными гражданские войны, закончившиеся лишь с установлением принципата» [16, p. 133]1. Однако процесс этот завершился намного позже начала гражданских войн, уже в эпоху Империи [20, р. 385-386], а потому преувеличивать значение реформы Мария в этом отношении не стоит – нет никаких оснований считать, что малоимущие составляли большинство в армии и имели какие-то особые интересы, не говоря уже о лоббистском ядре, чтобы эти интересы отстаивать [15, p. 24-28]2. Кроме того, даже если воины владели земельными участками, ничто не мешало им добиваться новых, тем более что многие имели двух и более сыновей, которые при дроблении надела могли оказаться в очень стесненном положении.
Однако то, что войско не стало «пролетарским», не означает, что оно не могло изменить свое отношение к полководцу и государству – другое дело, насколько это связано именно с реформой Мария, а не общей политической эволюцией вообще и условиями смуты в частности. Речь идет о возникновении так называемых клиентских армий. В историографии этот вопрос обсуждался неоднократно, высказывалось немало возражений, однако противники точки зрения о существования военной клиен-телы и «клиентских армий» оказались в мень-шинстве3. Они появились в годы Союзнической войны – ими стали армии Суллы и Помпея Страбона [5, p. 228 + n. 7]4. Первая оставалась под командованием до окончания гражданской войны и последующего ее роспуска, вторая – до смерти полководца. Другими такого рода формированиями были армии Метелла Пия, Помпея, Красса. Во многом это относится и к войску Мария в 87 г. Все это свидетельствует о том, что речь идет уже не о единичных случаях, а о системе. Причем именно эти армии – что, впрочем, неудивительно – были наиболее устойчивы и боеспособны, и именно то, что большинство их держало сторону врагов Суллы, обеспечило ему победу.
Важным показателем изменившегося морального состояния войск являлись умножившиеся солдатские мятежи, с одного из которых и началась сама гражданская война. И если в «клиентских армиях» они вспыхивали потому, что воины желали сохранить собственного полководца, то солдаты, призванные лишь недавно по набору, поднимали бунт, чтобы сменить существующего. Примерами первого являются события в легионах Суллы и Помпея Страбона, второго – в войсках Флакка и Цинны. Была и еще одна форма солдатского своеволия, особенно характерная как раз для гражданских войн – переход на сторону неприятеля, впервые произошедший в 87 г., когда легион Аппия Клавдия поддержал Цинну, покинув своего командира. Затем аналогичные случаи имели место в армиях Фимбрии, Сципиона, Карбона, Мария Младшего [17, p. 36-37, 100, 118-119, 124, 127 (с указанием источников)]. Однако и «клиентские армии» не были полностью застрахованы от этого – во время осады Рима воины Метелла Пия начали братание с циннанцами (Gran. Lic. 23F), что могло кончиться и сменой фронта, да и войско Фимбрии, которое вполне можно считать уже его собственной армией, легко перешло на сторону Суллы, когда сочло это более выгодным. При этом следует учесть одно обстоятельство: Р. Олстон отмечает, что воинам, прослужившим уже какое-то время вместе, было проще осознать свои интересы, примером чего является армия того же Цезаря [2, p. 33]. Между тем воины марианских легионов, бунтовавшие против своих командиров, сплошь и рядом были еще новобранцами, но свои интересы уже осознавали, коль скоро боролись за них таким образом. Дело, видимо, в характере целей: ни в одном случае солдаты марианских армий не выдвигали экономических требований, столь популярных у воинов Цезаря5. Последние явно договаривались между собой о том, чего они ждут от seditio, причем при удовлетворении их пожеланий они изъявляли готовность прекратить мятеж. Требования же солдат марианских армий были не таковы, чтобы военачальники могли их выполнить – это либо отказ воевать, либо стремление перейти на сторону врага6. Т.е. они отличались большей примитивностью, что делало несложным их усвоение основной массой солдат, даже не осознавших себя еще в должной мере единым коллективом.
Весьма примечательно, что изменение роли армии далеко не сразу стало понятно современникам. Марию, который mutatis mutandis немало сделал для изменения характера армии, и в голову не пришло открыто использовать ее в борьбе за свое положение, хотя его ветераны в 100 г. сыграли заметную роль в политической борьбе – первым это сделал его враг Сулла [15, p. 94] (см. также: [20, p. 147; 26, p. 17, n. 1]7, да и то лишь оказавшись в очень тяжелом положении. И даже он при принятии решения о передаче армии Помпея Страбона своему коллеге по консулату не подумал о собственном примере, который он явил, отказавшись уступить командование Марию [11, p. 84]. Объясняется это, видимо, не только силой инерции, но и вероятной уверенностью Суллы в принципиальной разнице ситуаций – его самого отстранили от командования per vim, тогда как на сей раз решение принято законным порядком. Отметим одно важное отличие от случая со взятием Рима: если Сулла, пусть и в нарушение всех норм, брал город, ссылаясь на то, что решение о его отстранении незаконно, поскольку принято под давлением (насколько это соответствовало действительности – вопрос отдельный), то люди Помпея Страбона убили консула безо всяких ссылок на закон, это стало открытым обращением к праву сильного. При этом вряд ли можно считать, «что Помпей Страбон, как думают некоторые, обнаружил скрытый потенциал своей армии до Суллы или, во всяком случае, выступал как его подражатель» [15, p. 79].
У нас очень мало сведений о том, как именно предводители «клиентских армий» обеспечивали их преданность. Плутарх рассуждает в связи с реквизицией храмовых сокровищ Суллой, который сравнивается с Титом Фламини-ном, Ацилием Глабрионом и Эмилием Павлом, которые их не тронули: «Ведь они в согласии с законом распоряжались людьми воздержными, привыкшими беспрекословно повиноваться начальствующим […], а лесть войску почитали более позорной, нежели страх перед врагом; теперь же полководцы добивались первенства не доблестью, а насилием, и, нуждаясь в войске больше для борьбы друг против друга, чем против врагов, вынуждены были, командуя, заискивать перед подчиненными и сами не заметили, как, бросая солдатам деньги на удовлетворение их низменных потребностей и тем покупая их труды, сделали предметом купли-продажи и самое родину, а желая властвовать над лучшими, оказались в рабстве у худших из худших» (Sulla 12. 9-13. Пер. В.М. Смирина). Однако здесь, как резонно замечает А. Кивни, Плутарх явно переносит на 80-е гг. реалии эпохи триумвиров8, когда уже отношения между солдатами и военачальниками были совсем иными и первые диктовали свои условия вторым, Сулла же являлся полновластным хозяином армии9, с солдатскими бунтами придется столкнуться Цезарю (см. [14, p. 298-300; 15, p. 5-6, 30]).
Бесспорно, обильная добыча поддерживала симпатии солдат к полководцу10, но одной ее было вряд ли достаточно – как известно, Эмилий Павел, давший воинам разграбить Эпир, популярностью у них не пользовался (Liv. XLV. 34. 1-7; Plut. Aem. 30.4). Репутация военачальника основывалась на разных составляющих, которые сформулировал Цицерон: «Истинный полководец (summus imperator) должен обладать следующими четырьмя дарами: знанием военного дела, доблестью, авторитетом, удачливостью (scientia rei militaris, virtus, auctoritas, felicitas)» (De imp. Pomp. 28. Пер. В.О. Горен-штейна). Бесспорно, всеми этими качествами Сулла обладал, продемонстрировав их еще в Союзническую войну. К ним, несомненно, нужно добавить еще одно – умение находить общий язык с солдатами и центурионами (об этом Цицерон, естественно, умолчал, поскольку оно не укладывалось в рамки образа сурового полководца, добивающегося беспрекословного выполнения своих приказов). Наглядным примером этого стала речь Суллы к воинам накануне похода на Рим в 88 г., когда и он, и его воины прекрасно поняли друг друга (App. BC. I. 57. 252)11. Другой случай такого рода (даже два) мы наблюдаем накануне высадки в Италии: по словам Плутарха, солдаты по собственной инициативе (ἀφ᾿ αὑτῶν) поклялись не покидать своего предводителя12 и обещали не чинить насилий в Италии13, а заодно предложили ему свои сбережения, считая, что он нуждается в деньгах (Plut. Sulla 27. 5-6)14. Полководец поблагодарил воинов, но отказался принять, как выразился Дж. Бэйкер, «материальное выражение их лояльности» [6, р. 239]15. Почему же Сулла так поступил? Весьма вероятно, что он не хотел иметь лишних обязательств перед воинами. К тому же столь красивый жест еще больше поднимал его в глазах солдат. Что же касается клятвы не чинить насилий в Италии, то воины соблюдали ее, судя по источникам, до тех пор, пока Сулла после срыва соглашения со Сципионом не начал разорять неприятельскую территорию (App. I. BC. 86. 389).
Однако отношения будущего диктатора с армией не всегда были безоблачными. В частности, ему пришлось оправдываться перед солдатами, возмущенными Дарданским миром, прибегая к измышлениям о возможном союзе между Митридатом и Фимбрией в случае, если бы договор с царем Понта не был заключен (Plut. Sulla 24.7)16. Примечательно также, что Сулла, если верить Плутарху, собираясь перевезти воинов в Италию, боялся, как бы, достигнув ее берегов, его воины не разошлись по домам17 – для этого и понадобилась клятва18, о которой только что шла речь. Но важно, что в обоих случаях все обошлось для полководца благополучно – даже если инициатива присяги исходила от воинов лишь отчасти (Сулла мог их подтолкнуть к этому умело выстроенной речью, как и в случае с походом на Рим), это мало что меняет.
Примечательно поведение солдат Помпея Страбона: после смерти своего полководца они не разбрелись и не предложили свои услуги на выгодных условиях неприятелю, но пожелали, чтобы ими командовал более достойный полководец, нежели консул Октавий, не пользовавшийся их уважением, и перешли на сторону врага лишь после того, как им отказали (Plut. Mar. 42.5-6). Несомненно, само такое требование резко противоречило римской традиции и свидетельствовало о серьезных переменах в психологии воинов, но также говорило и о том, что они руководствовались в своем поведении не только сугубо материальными соображениями – налицо проявление корпоративного сознания и, если угодно, самоуважения.
Своим «правом» на более «достойного» предводителя воспользовались и солдаты Валерия Флакка. Сначала они взбунтовались против него, предпочтя ему талантливого и удачливого Фимбрию, к тому же не обделявшего их добычей, но когда им пришлось столкнуться с превосходящими силами Суллы, они спокойно перешли на его сторону. Не случайно тот оставил Fimbriani в Азии (Plut. Luc. 7. 1-2; App. Mithr. 64.265), поскольку быть уверенным в их верности или хотя бы управляемости в схватке за Италию, естественно, не мог; сомнительно, во всяком случае, что они проявили бы ту сдержанность во время марша по Южной Италии, которая была призвана обеспечить (и наверняка обеспечила) Сулле симпатии, а то и поддержку многих жителей Апеннинского полуострова.
Таким образом, во время первой гражданской войны армия, что вполне естественно, стала играть намного более важную роль в римской политике, чем прежде, осознав себя как политическая сила. Тем не менее, она еще не заставляла политиков подчиняться в такой степени, как то произойдет во времена второго триумвирата. «Клиентские армии» стали опорой многих военачальников, и именно они демонстрировали наибольшие боеспособность и устойчивость. При этом и воины, призванные по набору, также стали проявлять неслыханное прежде своеволие, о чем говорят убийство Цин-ны и неоднократные переходы на сторону неприятеля. Превращение же армии в самостоятельную политическую силу было еще впереди.
Список литературы Армия в годы первой гражданской войны в риме
- Махлаюк А.В. Войсковая клиентела в позднереспубликанском и раннеимперском Риме // Вестник древней истории. 2005. №3. С. 36-57.
- Alston, R., 2002. The role of the military in the roman revolution. Aquila legionis, Vol. 3, pp. 7-41.
- Amidani, C., 1994. L’assassinio di A. Postumio Albino e l’assegnazione del commando mitridatico a L. Cornelio Silla. Aevum, Vol. 68, pp. 89-94.
- Angeli Bertinelli, M.G., 1997. Introduzione e commento alla biografia di Sulla. in: Plutarco. le Vite di Lisandro e di Silla. Milano, pp. XXI-XXXVII, 289-418.
- Badian, E., 1958. Foreign clientelae (264-70 B.C.). Oxford.