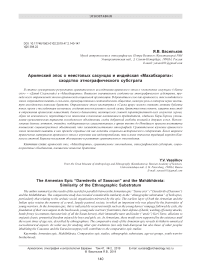Армянский эпос о неистовых сасунцах и индийская "Махабхарата": сходство этнографического субстрата
Автор: Васильков Я.В.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье суммированы результаты сравнительного исследования армянского эпоса о «неистовых сасунцах» («Sasna crer» = «Давид Сасунский») и «Махабхараты». Выявлено значительное сходство их этнографического субстрата, прежде всего отражаемой эпосом архаической социальной организации. В древнейшем слое как армянского, так и индийского эпоса сохраняется память о сельском, преимущественно скотоводческом обществе, важную роль в котором играл институт молодежных воинских братств. Отражением этого института в «Сасна црер» можно считать мотивы буйства юных героев с последующим изгнанием, создания ими поселения в лесной глуши, братства юных воинов, защиты ими стад и отражения вражеских нашествий, боевого бешенства, являющегося главной характеристикой всех сасунских героев, образ их неизменного, переходящего из поколения в поколение наставника и предводителя, «дядьки» Кери-Тороса, упоминания оргиастических пиршеств молодежного объединения, следы добрачной свободы юношей и девушек и т.п. Использование данных мотивов, очевидно, поддерживалось существованием у армян вплоть до Новейшего времени института юношеских социовозрастных объединений, что засвидетельствовано этнографией. Сравнительное изучение армянского эпоса позволяет выявить в нем прежде скрытые от нас аспекты социально-исторического содержания. Более широкое привлечение материалов армянского эпоса к изучению как индоевропейских, так и иных эпических традиций народов Кавказа и степной Евразии послужит обогащению и развитию сравнительного эпосоведения.
Армянский эпос, «Махабхарата», сравнительное эпосоведение, этнографический субстрат, социо-возрастные объединения, юношеские воинские братства
Короткий адрес: https://sciup.org/145145932
IDR: 145145932 | УДК: 398.22 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.140-147
Текст научной статьи Армянский эпос о неистовых сасунцах и индийская "Махабхарата": сходство этнографического субстрата
Введение: индо-армянские эпические параллели
Обратиться к поиску параллелей между армянским эпосом «Сасунские безумцы» («Sasna cṙer»; в России он более известен под названием «Давид Сасунский») и индийской «Махабхаратой» (далее Мбх) меня побудил пример А. Петросяна, в арменоведческих работах которого [Petrosyan, 2011; Петросян, 2014] уже выявлена общность некоторых мотивов и образов в двух традициях. Ниже будет представлена попытка встречного движения – от индийского эпоса к армянскому. По мере моего ознакомления с армянскими эпическими текстами (к сожалению, только в переводах) вскоре стали выявляться новые параллели.
Историческое содержание армянского и индийского эпоса одинаково многослойно. В Мбх, наряду с отражением эпохи крупных монархических образований и городской культуры в преимущественно земледельческом обществе, сохраняется и наиболее ранний слой воспоминаний об эпохе родоплеменного общества мобильных скотоводов. Высшей ценностью в нем признавались стада. Именно из-за них возникали конфликты между племенами. Регулярный обмен набегами на стада осуществляли вратьи , члены молодежных воинских братств ( gaṇa или vrāta – «стая»). В ведийской мифологии отражением такого союза юных воинов является гана Марутов, божеств бури, сыновей грозного бога скотоводов Рудры, братьев-ровесников, на боевой колеснице которых вместе с ними стоит их общая подруга – юная богиня Родаси.
Индийский эпос, складывавшийся в воинской среде, сохранил наследие архаического героизма лучше, чем жреческая поэзия «Ригведы». Эпическим отражением братства юных воинов являются, по-видимому, пятеро главных героев Мбх – братьев Пандавов. После смерти отца, царя Панду, братья растут при дворе дяди, царя Дхритараштры, и постоянно конфликтуют с его сыновьями, царевичами Кауравами. Чтобы отделаться от племянников, Дхритараштра позволяет им основать собственное царство в удаленной лесной области. Когда Кауравы посредством колдовства и обмана при игре в кости лишают их царства, Панда-вы, в сопровождении своей общей супруги Драупади, скитаются по лесам, совершая всевозможные подвиги [Held, 1935, p. 308; Witzel, 2005, s. 41; Васильков, 2010, с. 307–310].
Другая группа эпических персонажей, в которой тоже можно видеть воинское братство, – это окружение друга Пандавов Кришны, молодежь из племени ядавов. На их буйных ритуальных празднествах льется вино, присутствуют девушки, а сами юные воины приводят себя в состояние неистового, звериного бешенства, что в итоге кончается трагедией: на послед- нем из таких празднеств воины Кришны, хмельные и обуянные яростью, полностью истребляют друг друга [Васильков, 2009, с. 51–53].
Здесь будет достаточным ограничиться констатацией того, что в древнейшем слое содержания Мбх мы находим воспоминания о родоплеменном обществе воинственных скотоводов, в котором представляется естественным для сыновей царя объезжать пастушьи станы, пересчитывать и клеймить собственноручно скот, совершать набеги на стада соседей или отражать подобный набег (Мбх I, 205; III, 227–229; IV, 33–62; все ссылки на санскритский текст Мбх по: [Mahābhārata, 1933–1966]).
В историческом содержании армянского эпоса тоже можно выделить слои, относящиеся к разным эпохам. Академик И.А. Орбели в предисловии к переводу сводного текста «Сасна црер» справедливо заметил, что в значительной части его историческое содержание определено борьбой с арабами и Багдадским халифатом, но в эпосе присутствует также множество наслоений предшествующих эпох, а возникновение некоторых «моментов этого эпоса отделено от нас не одним, а многими тысячелетиями» [1939, с. IX].
Общий этнографический субстрат двух эпосов: братства юных воинов
Наибольшее сходство с индийским эпосом обнаруживается в древнейшем слое содержания «Сасна црер» и именно в том, как в нем преломляется этнографический субстрат эпоса. Этот термин, предложенный Б.Н. Путиловым, охватывает используемые эпосом мифоритуальные модели, а также архаическую социальную организацию. Далее я постараюсь показать, что в «Сасна црер» и Мбх аналогичным образом отражены сходные формы архаической социальной организации как составляющей этнографического субстрата эпоса. Мое внимание к группе мотивов, входящих в этот слой, было привлечено статьей А. Петросяна о «черных юношах» – t’ux manuk [Petrosyan, 2011], в которой образы данных персонажей армянского фольклора возводятся к архаическому институту молодежных воинских братств и мифологическим «членам боевой дружины бога грозы». Индийскую параллель армянским «черным юношам» автор усматривает в мифологических группах юных воинов – Рудр и Марутов, составляющих дружины Рудры, бога бури, и Индры, бога-громовержца. Земным эквивалентом этих мифологических групп являлись как раз упомянутые выше в связи с Мбх вратьи , предводитель которых мыслился воплощением Рудры.
Первое, что бросается в глаза индологу при знакомстве с армянским эпосом, – это юность сасунских героев. Большинство подвигов они совершают в дет- стве и юности. В детстве все герои «Сасна црер» – основатели Сасуна, братья Багдасар и Санасар, сын последнего Мгер Старший, внук Давид и правнук Мгер Младший – отличаются необычайной силой и буйным нравом. Маленький Санасар в Багдаде сворачивает шею сыну визиря. В городе царя Теватороса братья в игре калечат местных детей [Давид Сасун-ский…, 1939, с. 15, 34–36]. Маленький Давид нечаянно убивает и увечит детей знати в Мсыре, отправленный в Сасун, калечит сверстников и там [Там же, с. 162–163, 192–193; Армянский народный эпос…, 2004, с. 269–270]. Шестилетний (или даже двухлетний) Мгер Младший перебрасывает мост через реку в Сасуне и бьет всех, кто идет по нему: «Зачем идете по моему мосту!». Когда же горожане идут через реку вброд, он бьет их со словами: «Я для вас перекинул мост. Зачем же вы вброд пошли?» [Давид Са-сунский…, 1939, с. 335–336]. Подобный эпизод есть и в Мбх (III, 106.10–15): юный царевич Асаманджас, сын царя Сагары, «хватая за пятки беспомощных, плачущих детей горожан, сбрасывал их в реку»; горожане пожаловались царю, и тот изгнал сына из города.
Буйство юных сасунских героев тоже влечет за собой изгнание. Санасара и Багдасара царь Теваторос выдворяет из города, правда, разрешая им на своей земле основать собственное поселение – Сасун [Там же, с. 36–43]. Давида сасунцы отправляют в горы пасти скот [Там же, с. 192–194; Армянский народный эпос…, 2004, с. 171]. Мгера Младшего после побоища у моста отсылают к деду в Капуткох. Горожане и там обеспокоены его буйством, и мать вынуждена отправить сына на охоту под присмотром двух своих братьев. В ссоре он нечаянно убивает обоих дядьев, после чего дед высылает Мгера обратно в Сасун [За-рьян, 1973, с. 219–222].
Буйство юного героя является одной из мотивировок его изгнания – важнейшего элемента завязки как эпоса, так и волшебной сказки [Пропп, 1969, с. 69]. Но существует и много других, например, ненависть мачехи, спор о наследстве братьев, зависть и т.п. Использование армянским эпосом только этой мотивировки ухода героя из дома заставляет предположить, что бытование данного мотива поддерживалось длительным существованием у армян института юношеских социовозрастных объединений, о чем свидетельствуют этнографические материалы (см., напр.: [Варданян, 1967, 1981; Карпов, 1996, с. 206–207]). Он позволял переадресовать нужным образом юношескую агрессивность и вывести ее носителей за пределы селения, на периферию общинной территории. Скорее всего, институт юношеских воинских братств и послужил этнографической основой таких мотивов, как изгнание юного героя за его буйство и «дом в лесу» европейского сказочного фольклора [Пропп, 1946, с. 97–148]. Своего рода «домом в лесу», убежи- щем удаленных из столицы за буйство братьев и становится Сасун. Параллель к этому есть в Мбх: царь Дхритараштра, чтобы избавиться от племянников, юных братьев Пандавов, позволяет им основать собственное царство в отдаленной, лесной части своих владений, где они и строят свой город – Индрапраст-ху (Мбх I, 199.24–50).
Эпическая биография каждого из «сасунских безумцев» почти вся приходится на период детства и юности, завершаясь женитьбой и рождением сына, после чего герою остается только умереть или выйти на свой последний бой. Приключения основателей Сасуна заканчиваются тем, что Санасар, сыграв свадьбу с Дехцун и дождавшись рождения сына, умирает [Давид Сасунский…, 1939, с. 106–107]. Мгер Старший, женившись на царевне Армаган, покидает ее на время ради вдовы Мсрамелика, затем возвращается и после рождения сына (Давида) умирает [Там же, с. 146–151; Зарьян, 1973, с. 78–90]. Давид, сыграв свадьбу с Хандут-хатун и дождавшись рождения сына (Мгера), уходит на бой с хлатцами и гибнет от стрелы отвергнутой им первой нареченной либо рожденной ею от него дочери [Армянский народный эпос…, 2004, с. 28–29, 185–187, 294]. Мгер Младший женится на Гоар, но прежде чем супруги разделят ложе, он должен одолеть войско мсырского царя. По возвращении он через некоторое время отправляется из Багдада защищать Сасун от врагов; вернувшись, находит Гоар умершей от тоски, после чего сам покидает мир [Давид Сасунский…, 1939, с. 365–375; Армянский народный эпос…, 2004, с. 78–83]. Женитьба, таким образом, переводит каждого героя из юношеского статуса в следующий возрастной класс, после чего эпос как бы утрачивает к нему интерес.
Не только главные герои, но и их соратники, «са-сунские безумцы» – это подростки, юноши, обычно обозначаемые термином lac - «паренек», «мальчик», в русских переводах - «юнец». В диалектах lac демонстрирует оттенки значения, вполне отвечающие образу участника буйной подростковой дружины, например, в диалекте Себастии – «(порочный, испорченный) мальчишка», в других производное наречие lac-anak - «отважно, мужественно». Это напоминает эволюцию семантики вед. márya- , ав. mairya – «юноша; член молодежного воинского объединения»: в более поздних индоиранских языках рефлексы данного слова могут иметь значение как «юноша-любовник», так и «злодей», «разбойник». Именно слово lac использует при обращении к сасунским героям их вечный наставник Кери-Торос. Эти «юнцы», «ребята» составляют главную военную силу Сасуна. В переводе сводного текста о борьбе с багдадским халифом сказано: «Набрал царь Гагик горячих юнцов, / Из них сколотил полки… / Кери-Торос и все юнцы / Разят, крушат халифа войска» [Давид Сасунский…, 1939, с. 21].
Особого внимания заслуживают описания пиршеств героя со своими сотоварищами: Мгер «взял сорок парней холостых, / Сорок девушек незамужних взял, / Поставили себе семилетнее гранатовое вино, пьют!» [Армянский народный эпос…, 2004, с. 75; Давид Сасунский…, 1939, с. 239]. Ценная деталь содержится в прозаическом переложении Н. Зарьяна: Давид «со своими однолетками (выделено мной. – Я.В. ), неженатыми юношами и молодыми девушками каждый день пировал» [1973, c. 149]. К сожалению, не удалось выяснить, от какого варианта сказания отталкивался Н. Зарьян, упоминая о том, что сотоварищи Давида – его ровесники. Это может указывать на принадлежность «сасунских удальцов» к молодежному воинскому братству, т.к. участники подобных объединений обычно в один год проходили обряд инициации. Описание в «Сасна црер» этих пиршеств, несомненно, следует поставить в связь с совместными пирами архаических братств юных воинов, носившими, как правило, оргиастический характер, что можно проиллюстрировать и обрядовой практикой сотоварищей Кришны в Мбх, и, например, особенностями коллективных трапез молодежных, в прошлом воинских, объединений Средней Азии [Снесарев, 1963, c. 179, 187–188]. По данным этнографии, в XIX–XX вв. у армян в пиршествах, организуемых сообществами юношей-сверстников, девушки уже не участвовали [Варданян, 1981, c. 102, 107].
В «Сасна црер» сотрапезники юного Давида охарактеризованы как «сорок холостых парней ( azap lač )» и «сорок незамужних девушек» (azap ałǰik ). Привлекает внимание определение azap – прилагательное, которое, по данным этнографии, в виде субстан-тива ( азап , азаб ) использовалось для обозначения групп молодежи добрачного возраста, в частности, свиты жениха в свадебном обряде [Варданян, 1967, c. 291–292; 1981, c. 104]. Примечательно также указываемое в тексте число юных сотрапезников Давида. С одной стороны, 40 похоже на «эпическое число» в «Сасна црер»: 40 дэвов угоняют из стада, которое пасет Давид с другими пастухами, 40 коров; 40 жерновов и 40 воловьих шкур наваливает на себя, сидя в яме, Мсрамелик, спасающийся от Давида, и т.д. Но, может быть, это «эпическое число» как раз и объясняется тем, что армянский эпос в своей ранней форме был эпосом воинского союза. По крайней мере, число сотрапезников Давида совпадает с количеством мужчин (по-видимому, молодых), которые одновременно находятся в доме Кери-Тороса:
Кери по дому взад-вперед ходил, Поздоровался с ним Давид, К нему подошел, спросил: «Кери, Нас в доме сколько душ?» А тот: «С тобою сорок нас».
[Давид Сасунский…, 1939, с. 214]
Этот эпизод в одной давней этнографической статье о «Давиде Сасунском» интерпретировался как отражение характерной для средневековой Армении «патриархальной большой семьи» [Першиц, 1951, c. 47]. Но гораздо более вероятно, что здесь речь идет о доме молодежного воинского объединения, руководителем и наставником которого является Кери-Торос. В связи с этим есть смысл присмотреться внимательнее к странному образу «дядьки» Тороса.
А.И. Першиц сделал точное наблюдение: «Во всех четырех ветвях эпоса дети растут без отца» [Там же, c. 49]. При этом рядом с героями всех четырех поколений их дядя Кери-Торос. Когда будущие основатели Сасуна Санасар и Багдасар еще пребывают во младенчестве, армянские «юнцы» во главе с «дядькой» Торосом истребляют войско багдадского халифа, напавшее на Армению. И впоследствии Кери-Торос играет ту же роль наставника юных героев при всех поколениях сасунцев, причем он совсем не меняется. Основываясь на том, что апеллятив кери обозначает дядю с материнской стороны, А.И. Першиц, в духе времени, видел в этой «отвлеченной» фигуре «далекие отзвуки» матриархата и авункулата [Там же, с. 50]. Однако есть все основания интерпретировать ее как персонификацию статуса, социальной функции. Во главе молодежных воинских союзов часто стоял старший по возрасту «дядька», наставник. За примером далеко ходить не надо: в армянской этнографии описан известный прежде всего своей ролью в свадебном обряде персонаж, который вполне мог послужить моделью образа Кери-Тороса. Это кавор – «посаженный отец, а впоследствии и крестный отец молодой пары… В свадебных обрядах коллективного посвящения юношей ка-вор является представителем той возрастной группы, в которую готовятся перейти посвящаемые. В период прохождения инициаций кавор , как более старший по положению, выступает как бы наставником посвящаемых, везде сопутствует им, а после завершения обрядов посвящения является тем лицом, которое вводит их в следующую возрастную группу» [Варданян, 1967, с. 292].
Возвращаясь к числу «сорок», определяющему количество и пирующих с Давидом «холостых парней», и обитателей «дома дядьки Тороса», отмечу небезынтересную параллель в обрядности молодежных (часто воинских) объединений ровесников в Средней Азии. В разделе работы Г.П. Снесарева, озаглавленном «Сакральное число сорок и связь его с мужскими объединениями», приводится ряд доказательств того, что количество участников таких объединений, как правило, составляло 40 или около того [Снесарев, 1963, с. 182–184] (ср. также: [Рахимов, 1990, с. 58–59]). Параллель может оказаться не только типологической, поскольку молодежные объединения у армян и у народов Средней Азии (где они даже у тюркоязычных народов восходят, по-видимому, к обрядности древнего, ираноязычного населения) обнаруживают немало общих черт, вплоть до совпадений в терминологии [Варданян, 1981, с. 109].
Допустив, что присутствие девушек на пирах эпического героя с товарищами свидетельствует об их участии в ритуальных действах молодежных воинских братств, можно гипотетически реинтерпрети-ровать определенные странности в характеристике женских персонажей «Сасна црер» и некоторые связанные с ними неясные, уходящие в архаику мотивы. Например, «богатырство» армянских эпических невест, которые нередко испытывают своих женихов, вступая с ними в поединок, может быть увязано с участием девушек в молодежных воинских братствах глубокой древности. В описаниях героических браков в «Сасна црер», как и в Мбх, есть неясные моменты, возможно являющиеся следами давно забытых архаических институтов и обычаев. Оба эпоса знают две основные формы героического брака. Одна из них на санскрите называется сваямвара – «собственный выбор (невестой жениха)». Иногда это реальный выбор девушкой мужа: например, Дамаянти выбирает Налу из числа претендентов в знаменитом сказании о Нале (Мбх III, 54) или Хандут избирает Давида, бросив ему яблоко [Давид Сасунский…, 1939, с. 310]. Иногда сваямвара предполагает состязания претендентов, в результате которых невеста достается победителю, но в ряде случаев последнее слово все-таки за ней. Этот архаический обряд в древних правовых трактатах, заложивших основы традиционных норм, уже не рассматривался в числе восьми известных видов брака. В армянской традиционной культуре выбор невестой жениха тоже был невозможен: при заключении брака даже «согласие молодых, в особенности девушки, в расчет не принималось» [Варданян, 2012, с. 328]. Вторая общая для «Сасна црер» и Мбх форма героического брака – умыкание невесты. И в Индии, и в Армении она сохранялась в традиционной культуре: брахманские трактаты признают умыкание хотя и не рекомендуемой, но допустимой формой брака для воинского сословия, а у армян похищение невесты допускалось в случае, если родители девушки или юноши противились браку [Там же, с. 329]. Примечательно, что в обеих эпических традициях сваямвара и умыкание могут сочетаться. Например, в «Сасна црер» Санасар выигрывает брачное состязание (достает со столба дворцовых ворот золотое яблоко), побеждает 60 претендентов-пахлеванов, но все же по соглашению с Дехцун умыкает ее, сражаясь с преследователями – воинами Медного города [Давид Са-сунский…, 1939, с. 99–103]. Хотя Хандут и избрала Давида, ему все же приходится потом сражаться с войсками других претендентов – царей разных стран [Там же, с. 318–327], в чем можно усмотреть трансформа- цию умыкания и преследования. Точно так же в Мбх братья Пандавы, после того как Арджуна, победив в состязании на сваямваре Драупади, уезжает с ней, вынуждены отражать нападение остальных претендентов, недовольных таким исходом (Мбх I, 180–181).
Многослойность отраженных индийским эпосом брачных обычаев можно показать на примере одного эпизода (Мбх I, 211–212). На буйном празднике юных воинов племени ядавов, предводимых Кришной, Арджуна видит красавицу Субхадру, Кришна замечает его волнение и предлагает ему свою «сестру» в жены. Сначала он говорит: «Если хочешь, я переговорю с отцом», т.е. намекает на возможность «дхармического» брака по всем правилам. Но никаких упоминаний об отце далее нет. Обычный для знатного воина брак по обряду сваямвары Кришна считает рискованным: ведь Субхадра может и отвергнуть победителя. Поэтому он сам предлагает Арджуне умыкнуть «сестру», увезти ее силой, что Арджуна и делает. Кришне удается успокоить разгневанных сотоварищей, готовых расправиться с похитителем. Арджуне и Суб-хадре предлагают вернуться, чтобы отпраздновать свадьбу. Примечательно, что судьбу девушки решает не ее отец, а «брат» или, точнее, собрание воинского союза. Слова «брат» и «сестра» в вышеприведенном описании взяты в кавычки, поскольку в общеиндоевропейском языке *bhrātar (как позже и его рефлексы в некоторых индоевропейских языках) «означало братство, которо е не обязательно было кровным», могло относиться к членам разного рода религиозных или воинских братств [Бенвенист, 1995, с. 149–150; Kullanda, 2002, p. 90–92]. Слово «сестра» в контексте такого братства (а именно таковым выглядит гана Кришны), возможно, аналогично «сестрице» в «лесном доме» европейской волшебной сказки [Пропп, 1946, с. 106–109].
В «Сасна црер» можно отметить по крайней мере два случая, когда «брат» предлагает «сестру» в жены герою. В одном из них Гоар, к которой приехал свататься Мгер, является к нему, переодетая в воинские доспехи, объявляет, что она – «брат Гоар», и трижды испытывает Мгера, вызывая на битву или состязание со словами: «Коль победишь меня – возьмешь сестру мою, Гоар!» [Давид Сасунский…, 1939, с. 362–365; Армянский народный эпос…, 2004, с. 227–228]. В другом эпизоде дэв Кулынк застает у себя в доме Мгера Младшего – путника, которого приютила и накормила его сестра. Он принимает Мгера как гостя, но наутро вызывает на борьбу: «Если победишь – сестру выдам за тебя!» Мгер побеждает, от женитьбы отказывается, но становится побратимом дэва [Армянский народный эпос…, 2004, с. 297]. Предложение герою сестры в жены сопряжено здесь с отношениями побратимства, что опять же отсылает к исторической реальности мужских союзов.
В Мбх Арджуна завоевывает на сваямваре Драу-пади (где главным распорядителем, кстати, являлся брат девушки – Мбх I, 176.35), но она становится общей женой пяти братьев. Это в период оформления эпоса противоречило всем нормам брака и требовало искусственных объяснений. Пандавы, скрывавшиеся в то время и участвовавшие в сваямваре под видом брахманов, возвращаются вместе с Драупади в дом, где их ждет мать, и говорят ей, еще с улицы, что кое-что добыли (как подаяние). Мать, за стеной хижины, не видя сыновей, отвечает: «Так владейте / наслаждайтесь этим сообща!» Потом, увидев Драупади, она ужасается своим словам. Но истинная подоплека мотива состоит в том, что в доме архаического братства юношей-воинов присутствовали и незамужние девушки, вступавшие с юношами в более или менее устойчивые добрачные связи [Vasilkov, 1990].
Возможно, в том же направлении указывает и некоторая неясность в отношениях между Дехцун и двумя братьями – Санасаром и Багдасаром. Баг-дасар, узнав о просьбе Дехцун к Санасару приехать за ней и увидев присланный ею портрет, охвачен такой ревностью, что вступает с братом в бой. Санасар побеждает, но полон сочувствия к брату и предлагает ему самому жениться на Дехцун. Багдасар, смирившись, отказывается. Когда братья, увозя Дехцун, истребляют преследующее их войско, царь, отец Дех-цун, является перед ними, прося прекратить бойню: «Что хотите, я все вам дам: / Дочь хотите – ее вам дам…» Братья отвечают: «Дехцун мы хотим – вот и берем». Пахлеванам, которых ранее отвергла Дех-цун, Санасар и Багдасар предлагают сразиться за нее: «Если одержим победу мы – станет нашей она» [Давид Сасунский…, 1939, с. 103–105]. В варианте сказания пахлеваны, отказываясь от боя, отдают Дехцун им обоим: «Пусть эта девушка счастье вам принесет!» [Армянский народный эпос…, 2004, с. 137]. Едва братья с Дехцун выезжают в Сасун, Санасар, преодолевший все препятствия в борьбе за девушку, вдруг во второй раз предлагает Багдасару взять ее в жены, и тот снова отказывается. Некоторая неопределенность в отношении того, будет принадлежать Дехцун обоим братьям или одному из них и которому именно, наводит на мысль, что здесь может проявляться след давно забытого архаического института. В свое время И.А. Орбели интерпретировал палицу, оставленную Мгером Младшим при отъезде на войну у входа в покои Гоар, как «стершееся в народной памяти воспоминание о палке или колчане, выставляемых у входа в обиталище многомужней жены тем из мужей, кто к ней уже пришел» [Орбели, 1939, с. XXXVIII], т.е. о полиандрии. Но в контексте всего вышесказанного правильнее будет, по-видимому, сказать, что здесь, как и в случае с замужеством Дех-цун, проявляется «стершееся воспоминание» о при- сутствии девушек в социовозрастном воинском союзе юношей, еще не достигших брачного возраста.
О «пастушеском героизме» эпической архаики
В индийском эпосе, как было сказано, воинские союзы юношей связаны с практикой мобильного скотоводства и взаимных набегов на стада. Примечательно, что и общество сасунцев характеризуется как исключительно скотоводческое. Кери-Торос объясняет Мгеру Старшему причину голода: сасунцы разводят и пасут скот, но не сеют и не пашут, а подвозу хлеба от соседей мешает лев-людоед [Давид Сасун-ский…, 1939, с. 122]. Пастушество играет большую роль в биографии юного Давида: он становится искусным пастухом, братается со всеми местными пастухами, возглавляет их, отстаивает интересы своих «братьев» [Там же, с. 206–213]. Определенная связь с пастушеством есть и у Мгера Младшего: пастух однажды видит его, когда открывается дверь в скале, и Мгер сообщает ему, что выйдет в мир тогда, когда наступит новая эра плодородия и правосудия [Петросян, 2014, с. 177–178].
Среди подвигов, совершаемых героями «Сасна црер», на втором по важности месте после борьбы с историческими захватчиками стоит защита стад от набегов. Давид-пастух преследует 40 дэвов, угнавших коров из общественного стада, настигает и убивает их [Давид Сасунский…, 1939, с. 210–216]. Юные Санасар и Багдасар живут, скрыв свое происхождение, при дворе царя Теватороса в Маназкерте, служат ему стольником и виночерпием. Однако, когда разбойники угоняют городское стадо, мальчики бросаются в погоню, пленяют воров и вместе со скотом пригоняют в город [Там же, с. 32–34]. Эта история являет поразительный паралеллизм с сюжетом из «Виратапарвы» (Мбх IV, 5–62). Общая для двух эпосов последовательность мотивов выглядит так:
братья (Пандавы / Санасар и Багдасар);
после долгих странствий по лесам приходят в город, где хотели бы поселиться (Виратанагара, столица царя Вираты / Маназкерт, столица царя Теватороса);
братья должны скрываться под чужими именами (по условию игры с Кауравами в кости / из-за страха людей перед халифом, от которого они сбежали);
царь принимает их на службу в разном качестве (Юдхиштхиру советником и экспертом по игре в кости, Бхиму главным поваром, Арджуну учителем танцев, Накулу конюхом, Сахадеву смотрителем за скотом / Санасара стольником, Багдасара виночерпием);
через год грабители/враги угоняют царское/город-ское стадо. Братья побеждают угонщиков, возвра- щают скот в город (Пандавы раскрывают свои имена и происхождение / Санасар и Багдасар проявляют свою природу героев и богатырей).
Было бы рискованным утверждать, что перед нами конкретный сюжет, представляющий индоевропейское или, скажем, общее арийско-греко-армянское наследие. Но возможность сходным мотивам в двух разных традициях сложиться в столь похожие комбинации свидетельствует о типологической близости обществ «героического века», отображенных в ранних слоях армянского и индийского эпоса.
Борьба за стада скота в «Сасна црер» ведется не только с дэвами и разбойниками. Поход мсыр-ского войска во главе с Козбадином на Сасун мало чем отличается от простого набега. Цели его указаны в устойчивой формуле, повторяемой в разных вариантах эпоса:
Красных дойных коров пригнать, Черных волов подъяремных пригнать, Рослых женщин взять – верблюдов вьючить, Низких женщин взять – жернова крутить, Девушек-красавиц для нас привезти!
[Армянский народный эпос…, 2004, с. 105; 274] (ср.: [Давид Сасунский…, 1939, с. 244, 245, 247, 252–253])
Иногда к этому добавляется: «Да сорок серебра тюков, / Да сорок золота тюков...» Но в инварианте формулы указаны только два объекта набега: женщины и крупный рогатый скот, что специфично именно для обществ воинственных скотоводов. У индоариев «Ригведы» военная добыча состояла из крупного рогатого скота и женщин. В гимнах, восхваляющих дары, полученные жрецом от знатного воина-жертвователя, фигурируют крупный рогатый скот, лошади и женщины-рабыни. В эпосе варианты этой формулы сохраняются: например, царь Вирата предлагает Юдхиштхире сыграть в кости, называя свою ставку: «Женщины, коровы, золото и всякое друго е богатство» (Мбх IV, 63.32). На памятниках героям, сооружавшихся на протяжении последних 2 000 лет в скотоводческих районах Индии, изображено, как правило, оплакивание героя теми, защищая кого он расстался с жизнью; это либо женщины, либо коровы [Vassilkov, 2011, p. 201–202, fig. 1, 1 – 3 ].
О «боевом безумии» архаических героев
В заключение коснемся еще одного момента, указывающего на роль объединений юных воинов в генезисе армянского эпоса. Ключевым словом, присутствующим даже в названии эпического цикла («Sasna cṙer»), является cuṙ (мн. ч. cṙer), имеющее исходное, буквальное значение «кривой». В русских переводах оно передается либо как прилагательное «шальной», «безумный», «ярый», «бешеный», либо как существительное «удалец», «сумасброд», «безумец». Анализ некоторых контекстов употребления в эпосе слова cuṙ, произведенный с помощью арменоведа-филоло-га П.А. Кочарова, показал, что оно обозначало, по-видимому, человека, способного впадать в неистовую яро сть, вытеснявшую страх смерти, умножавшую силу и обеспечивавшую победу в схватке. Параллели этому предоставляет индийский эпос, в котором юные воины на своих буйных пирах культивируют состояние боевого бешенства, внешне проявляющееся, как и в армянском эпосе, в «налитых кровью глазах». Можно упомянуть также умение впадать в исступленное буйство (ав. aēšma, перс. xašm) участников иранских воинских союзов [Wikander, 1938, S. 57–60; Daryaee, 2018, p. 41, 46], аналогичное состояние «волчьей ярости» (λύσσα) в гомеровском эпосе, неистовую ярость (wut) древнегерманских берсерков или боевое бешенство (ferg) ирландского эпического героя Кухулина [Lincoln, 1975]. Развернутая аргументация в пользу именно такого понимания слова cuṙ дана в специальной статье [Васильков, 2018].
Заключение
Как в Индии, так и в Армении архаические мотивы в эпосе определенно поддерживались тем, что ранние формы социальной организации, в частности социовозрастные объединения юношей, хотя бы на периферии культуры сохранялись до Новейшего времени. Но формирование этих мотивов в обоих случаях должно быть отнесено к древнему периоду, в индийской эпиче ской традиции – по-видимому, к эпохе бронзы.
Предложенная здесь интерпретация армянского эпоса останется гипотетической, пока ее не отвергнут или не подтвердят арменоведы, имеющие возможность читать текст в подлиннике. Все же надеюсь, что привлечение материалов «Махабхараты» помогло расширить предложенную А. Петросяном параллель между «черными юношами» армянского эпоса и индийскими Марутами [Petrosyan, 2011, p. 345]. Думается, мне удалось также подтвердить в какой-то мере точку зрения, согласно которой сравнительное изучение «Сасна црер» на фоне мирового эпического фольклора позволяет увидеть новые, прежде скрытые от нас аспекты формы и содержания [Егиазарян, 2016, с. 5, 6]. Более широкое привлечение материала армянского эпоса к изучению других эпических традиций несомненно послужит обогащению и развитию сравнительного эпосоведения.
Весь встречающийся в статье армянский языковой материал предоставлен Г. Мартиросяном и П.А. Кочаровым, за что автор выражает им искреннюю глубокую признательность.
Список литературы Армянский эпос о неистовых сасунцах и индийская "Махабхарата": сходство этнографического субстрата
- Армянский народный эпос «Сасунские удальцы»: Избранные варианты / пер., сост., словарь, коммент. акад. НАН РА К. Мелик-Оганджаняна. – Ереван: Ван Арьян, 2004. – 347 с.
- Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов: пер. с фр. – М.: Прогресс–Универс, 1995. – 453 с.
- Варданян Л.М. Пережитки института инициации у армян (по материалам свадебной обрядности) // ՊԲՀ (Պատմա-բանասիրականհանդես = Историко-филологический журнал). – 1967. – № 4. – С. 291–296.
- Варданян Л.М. Традиции мужских возрастных групп у армян (конец XIX – начало XX в.) // Армянская этнография и фольклор: Материалы и исследования. – 1981. – Вып. 12. – С. 85–142.
- Варданян Л.М. Брак и свадьба // Армяне / отв. ред. Л.М. Варданян, Г.Г. Саркисян и А.Е. Тер-Саркисянц. – М.: Наука, 2012. – С. 327–342.
- Васильков Я.В. Между собакой и волком: по следам института воинских братств в индийских традициях // Азиатский бестиарий: Образы животных в традициях Южной, Юго-Западной и Центральной Азии. – СПб: МАЭ РАН, 2009. – С. 47–62.
- Васильков Я.В. Миф, ритуал и история в «Махабхарате». – СПб: Европейский дом, 2010. – 397 с.
- Васильков Я.В. О ключевом термине армянского эпоса «Сасунские безумцы» в связи с индо-армянскими эпическими параллелями // Индоевропейское языкознание и классическая филология – XXII: мат-лы чтений, посвящ. Памяти проф. И.М. Тронского. – СПб.: Наука, 2018. – С. 292–298.
- Давид Сасунский: Армянский народный эпос / пер. В.В. Державина, А.С. Кочеткова, К.А. Липскерова, С.В. Шервинского; под ред. и с предисл. И.А. Орбели. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. – XLIV, 380, [4] с., 6 л. ил.
- Егиазарян А.К. Армянский эпос «Давид Сасунский» и русские былины: опыт сравнительного изучения // Вестн. Сев.-Вост. федерал. ун-та им. М.К. Аммосова. Сер.: Эпосоведение. – 2016. – № 3. – С. 5–14.
- Зарьян Н. Давид Сасунский: Повесть по мотивам армянского эпоса / пер. Н. Любимова. – М.: Дет. лит., 1973. – 270 с.
- Карпов Ю.Ю. Джигит и волк: Мужские союзы в социокультурной традиции горцев Кавказа. – СПб.: МАЭ РАН, 1996. – 311 с.
- Орбели И.А. Армянский народный героический эпос // Давид Сасунский: Армянский народный эпос. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1939. – С. VII–XLIV.
- Першиц А.И. О некоторых этнографических сюжетах в армянском народном эпосе «Давид Сасунский» // Изв. Академии наук Армянской ССР. Обществ. науки. – 1951. – № 8. – С. 47–60.
- Петросян А. Арменоведческие исследования. – Ереван: Антарес, 2014. – 267 с.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1946. – 340 с.
- Пропп В.Я. Морфология сказки. – 2-е изд. – М.: Наука, 1969. – 166 с.
- Рахимов Р.Р. «Мужские дома» в традиционной культуре таджиков. – Л.: Наука, 1990. – 156 с.
- Снесарев Г.П. Традиция мужских союзов в ее позднейшем варианте у народов Средней Азии // Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958 – 1961 гг. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – [Т.]II: Памятники средневекового времени. Этнографические работы. – С. 155–205. – (Материалы Хорезмской экспедиции; вып. 7).
- Daryaee T. The Iranian Männerbund Revisited // Iran and the Caucausus. – 2018. – Vol. 22. – P. 38–49.
- Held G.J. The Mahābhārata: An Ethnological Study. – L.: Kegan Paul & Co; Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Holland, 1935. – 351 p.
- Kullanda S. Indo-European “Kinship Terms” Revisited // Current Anthropology. – 2002. – Vol. 43, iss.1. – P. 89–111.
- Lincoln B. Homeric λύσσα “Wolfish Rage” // Indogermanische Forschungen. – 1975. – Bd. 80. – S. 98–105.
- The Mahābhārata, critically edited by V.S. Sukthankar and others. – Poona: Bhandarkar Oriental Research Inst., 1933–1966. – Vols. 1–19.
- Petrosyan A. Armenian Traditional Black Youths: the Earliest Sources // J. of Indo-European Studies. – 2011. – Vol. 39, iss. 3/4. – P. 342–354.
- Vasilkov Y. Draupadī in the Assembly-hall, Gandharvahusbands and the Origin of the Gaṇikās // Indologica Taurinensia. – 1990. – Vol. XV/XVI. – P. 387–398.
- Vassilkov Y. Indian “hero-stones” and the Earliest Anthropomorphic Stelae of the Bronze Age // J. of Indo-European Studies. – 2011. – Vol. 39, iss. 1/2. – P. 194–229.
- Wikander S. Der Arische Männerbund. – Lund: Håkan Olssons Buchdruckerei, 1938. – XII, 111 S.
- Witzel M. The Vedas and the Epics: Some Comparative Notes on Persons, Lineages, Geography, and Grammar // Epics, Khilas, and Purāņas: Continuities and Ruptures: Proceedings of the Third Dubrovnik Intern. Conf. on the Sanskrit Epics and Purāņas (September 2002) / gen. ed. M. Ježić. – Zagreb, 2005. – P. 21–70.