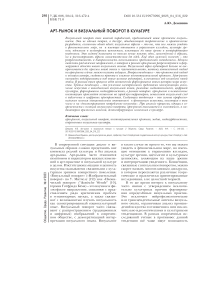Арт-рынок и визуальный поворот в культуре
Автор: Демшина А.Ю.
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 4 (69), 2023 года.
Бесплатный доступ
Визуальный поворот стал важной парадигмой, предложившей новое прочтение визуальности. Это не единая теория, а дискурс, объединяющий теоретические и практические разработки, связанные одной идеей: визуальные образы - это то, что мы можем увидеть в феноменальном мире, но и имеющее отношение к управлению взглядом, культуре зрения, идеологии и культурным ценностям, влияющим на наше зрение и интерпретацию увиденного. Это может позволить не только лучше понять идеи, заключённые в образах, но и рассматривать образы самостоятельно от идей. Ещё один важный момент - это ретроспективность и диахроничность использования предложенной методологии. Можно выделить ряд важных направлений, в которых в рамках арт-рынка репрезентуются и формируются области нового визуального опыта. Визуальный образ аудиторией больше не воспринимается без призмы новой этики и чувствительности, поэтому контекстный подход на арт-рынке сейчас можно назвать ведущим. Вторая тенденция - это критический подход к позиции автора, создателя проекта и влияние институциональной критики. Арт-рынок вынужден подстраиваться под новые целевые аудитории, изменяться под влиянием новой этики. В рамках этого процесса идёт постепенное формирование новых центров мира искусства. Третья тенденция - это усиленное электронными средствами коммуникации включение искусства в повседневный визуальный опыт, развитие медиатехнологий, цифровой культуры, формирование медиаурбанистики, в рамках которых арт-рынок и независимые институции производят экспансию на городскую территорию, оставляют визуальный след в публичных и цифровых пространствах. Следующая тенденция - это замена профессионального мнения эмоциональным отношением к феноменам искусства, влияющая в том числе и на «демонстративное потребление искусства». При анализе процессов, идущих в современности с позиций визуального поворота, арт-рынок оказывается и симптомом, и индикатором кризисных явлений, демонстрирующим изменения в культуре.
Арт-рынок, визуальный поворот, институциональная критика, медиа, медиаурбанистика, современная визуальная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/140305699
IDR: 140305699 | УДК: 008, | DOI: 10.53115/19975996_2023_04_216_222
Текст научной статьи Арт-рынок и визуальный поворот в культуре
Общество. Среда. Развитие № 4’2023
В современной ситуации диалог о визуальных образах сложно представить вне контекста реалий культуры и без анализа арт-рынка. Арт-рынок часто становится симптомом и индикатором важных изменений в арт-практике и визуальной культуре в целом. Институционализация и ценность искусства оказываются связанными с культурным зрением конкретного поколения. «Визуальный поворот» («Изобразительный поворот» по У. Митчелу [19]) или «Икони-ческий поворот» (“ikonische Wende” [10], термин Готфрида Бёма) - это научное и философское направление, связанное с представлением ряда критических проблем в гуманитарных науках, а также связанное с возможностью изучать визуальность как сконструированный социокультурный опыт. Визуальный поворот часто связывают с распространением (традиционных и цифровых) изображений в современном обществе, с демократизацией интерпретации визуального опыта. Визуальное в таком случае не просто то, что мы можем увидеть в феноменальном мире, но имеющее отношение к управлению взглядом, культуре зрения, идеологии и культурным ценностям, влияющим на наше зрение и интерпретацию увиденного. Концепции, связанные с визуальным поворотом, можно скорее назвать многоплановым дискурсом, в котором пересекаются различные теоретические и практически ориентированные исследования, а не целостной теорией.
В то же время интерес к визуальному часто связан с утверждением исключительно культурных причин формирования определённых визуальных практик. Это исключает нейрофизиологические или трансцендентальные аспекты визуального опыта, ограничивая анализ произведений искусства и отношения к ним исключительно идеологическими и культурными тенденциями. В рамках современных исследований учёные в противовес данной тенденции всё чаще ищут возможность сочетания концепции культурного зрения и зрения как трансцендентного опыта [14]. Ганс Белтинг ещё в 1990 г. в работе «Сходство и присутствие» выдвинул тезис о том, что изображения могут придавать значение контексту, а не обретают смысл исходя из него, что, по мнению исследователя, важно для понимания изображения как самостоятельного действующего лица со своими собственными особенностями [16]. Критический проект «самооснова-ния» философии, представленный Бёмом, проследившим от Канта до Витгенштейна и Блюменберга, через Ницше и Конрада Фидлера идею знакового поворота, связан с пониманием зависимости мира понятий от метафор, образов. Г. Бём справедливо говорит о повороте как о возвращении образов, чему способствовали не только философские изыскания, но и вся история теории зрения от века девятнадцатого до современности, при активном участии искусства начиная от авангарда [11]. Естественно, начало поворота связано в первую очередь с философией и лингвистикой, исследователи искусства обратились к данной парадигме позже и использовали уже имеющиеся достижения как основу. В частности, на критическую теорию в целом достаточно сильно повлияли идеи М.М. Бахтина, который писал, что текст как высказывание есть «субъективное отражение объективного мира - выражение сознания, что-то отражающего» и как таковой текст является «исходной точкой всякой гуманитарной дисциплины», точно так же, как текст не равняется всему произведению [1]. Подобный подход, указывающий на нелинейность и мно-гослойность при применении к анализу визуального образа, становится сегодня основой как развития художественной практики, так и отображается в теоретических работах. Ещё один важный момент – это ретроспективность и диахроничность использования предложенной методологии. Например, Ролан Рехт исследует особенности влияния зрения/видения средневекового человека на архитектуру, используя как классические искусствоведческие методы, так и актуальные идеи, связанные с визуальным поворотом [8].
Вопрос, что влияет на оптику определённого человека, сегодня изучается многими дисциплинами, в том числе нейроэстетикой и нейрофизиологией, социологией, психологией, культурологией, физической оптикой и др. У. Митчел, исследующий современную визуальную культуру, пишет о взаимосвязи изменения от- ношения к визуальному в теоретических разработках, арт-практике и культуре, как о смене парадигмы, которая сегодня вызывает тревожность по отношению к новым технологиям создания, репрезентации, интерпретаций изображения: «Есть, несомненно, то, что и на уровне массового восприятия произошёл живописный поворот по отношению к новым технологиям производства, распространения и потребления изображений. Кризис сопровождает все знаковые повороты» [13]. Как результат в культуре появляется новый троп, новая система видения, вызывающая эмоциональную реакцию, которая оказывает влияние на отношение к образам, созданным на протяжении всей культуры человечества. Таким образом, современная иконология при более полном исследовании положения смотрящего, изучении характера взгляда на образы должна учитывать как минимум несколько моделей видения и зрительского восприятия. Это может позволить не только лучше понять идеи, заключённые в образах, но и рассматривать образы самостоятельно от идей. Выход на «повседневное виденье» обоснован У. Митчелом как перформативная и образовательная практика, в которой визуальность парадоксально оказывается областью, связанной не с полем традиционных дисциплин, исследующих изобразительность (история искусства, эстетика), а понимается как часть «народной визуаль-ности» или «повседневного виденья», т.е. культуры [21, р. 356].
Арт-рынок в таком случае оказывается на пересечении разнообразных дискурсов: от традиционных исследований изобразительности и мнений давно сформировавшихся авторитетных институций до демонстрации особенностей «повседневного виденья» и оптики актуальных социокультурных сфер, имеющих влияние в конкретный момент времени. Одиозным примером подобного вмешательства «повседневного видения» можно считать действия Ж. Дювина, который обрезал картины овальной формы, так как его клиенты предпочитали работы с прямыми углами [9].
Изменение ракурса интерпретации произведений искусства контекстуально связано и с трансформацией того, что Торн-стейн Веблен назвал «демонстративным потреблением». Искусство традиционно, как часть демонстративного потребления, часто становится способом показать ценности покупателя, а не художника. С 1980-х гг. приходит новый класс потребителей культурных ценностей – молодые бизнесмены,
Общество
Общество. Среда. Развитие № 4’2023
которые ориентированы на современное искусство, так как оно отвечает их пониманию жизни. Важность общения с художником, возможность ощутить себя человеком, открывшим новое в искусстве, сочетается с перспективами собрания целостной коллекции, демонстрирующей понимание мира коллекционера. Ключевой момент актуальной культуры связан с помещением личных эмоций в центр, а не следованием долженствованиям. Долженствования в такой ситуации воспринимаются или как инструкция к получениюи индивидуального опыта, или как запрет на оригинальность восприятия мира. Парадокс, но навязываемые современной культурой контексты восприятия искусства через призму новой этики и чувствительности часто становятся такой же догмой, как и предшествующие модели.
Двойственность мира искусства отмеч-нал Д. Кошут: «У нас всегда была история искусства, и это была история того, кто что сделал, когда и как это повлияло на дальнейшее развитие искусства – это была часть истории идей. А потом, 10, 15 лет тому назад… появилась новая история искусства, соперничающая с классической, и это история арт-рынка» [17]. Естественно, позиция одного из основателей концептуализма достаточно субъективна, так как история искусства не была столь идеально-возвышенной и реакция на искусство связана как с развитием культуры, так и с формированием философских, этических, лингвистических концепций и с ценностями праздных классов. Позиция Д. Кошута может быть соотнесена с институциональной критикой художественных и искусствоведческих институций, обострившейся после Второй мировой войны. Если для Х. Хааке, ветерана обличения системы художественных институций, центром критики стала двуличность буржуазных арт-деятелей, то для Ги Дебора главное идеей было продолжение проекта разрушения границ между искусством и жизнью, начатого ещё в конце XIX в. Обе концепции стремятся включить искусство в жизненный мир как его неотъемлемую часть, вместо концепции недоступности, элитарности закрытости мира искусства. Ситуационалисты стремились сделать культурное производство частью повседневной жизни, убрав посредников и дистанцию между произведением и зрителем, в контексте критики основ буржуазного общества, общества потребления, называемого Ги Дебором обществом спектакля [3].
Положительный результат институциональной критики связан с большей прозрачностью деятельности ведущих арт-институций, которые вынуждены считаться с новой этикой, хотя в целом мир искусства останется достаточно закрытым. Арт-мир вынужден реагировать на критику, так как виденье зрителя изменилось. Как результат – чуть большая открытость финансовой стороны деятельности музеев и аукционов, формирование в интер-нет-пространстве альтернативных институций, демонстрирующих понимание искусства и тип зрения близкий для зрителя. Увеличение значения личностного фактора при взгляде на произведение искусства привело и к возникновению «эффекта Кеннеди» (так назван из-за успеха аукциона личных вещей Жаклин Кеннеди), когда ценность произведения состоит в том, что его оценил кто-то авторитетный для целевой аудитории, а не связывается с качествами и достоинствами самого произведения. Этот «кто-то» может формально не быть специалистом в искусстве. В экономической науке существует понятие «система экспертного мнения» [19, р.167]. В рамках данной системы утверждается, что ценность - это не постоянное качество или свойство вещей, а результат взаимодействия множества постоянно трансформирующихся переменных [18, р. 33]. Данная система перекликается с теорией символического капитала П. Бурдье. Для современности в целом характерно изменение требований аудитории к «экспертному мнению», трансформация системы экспертного мнения, в частности, снижение критического мышления, утверждение собственных экспертных приоритетов на эмоциональных, а не профессиональных основаниях. Это приводит к неожиданным для традиционно настроенного экспертного сообщества результатам. Так, аукцион «11-й час», проведенный домом Кристи в 2013 г. для Благотворительного фонда Леонардо Ди Каприо, оказался гораздо успешнее аукционов, проведённых искусствоведами или галеристами.
Второе важное направление, связанное с институционализацией искусства, развивается в рамках урбанистики. Согласно ей принцип Ги Дебора о том, что искусство это то, что не отделено от жизни, находит своё новое, подчас коммерческое воплощение. Выход искусства за пределы галерей и «белого куба» был обозначен Ги Дебором в его книге «Психогеография» [4], в которой он указывает на то, что при прогулке и случайном «дрейфе» возможно настоящее чувственное познание города и искусства. Данная идея может быть применена и к развитию креативных площадок города, которые формируются в том числе и за счёт культурных институций.
Для современного человека, живущего в мире визуальных цифровых образов, искусство лучше воспринимается как встроенное в готовый контекст или социокультурную проблему. Появление картины в раме много веков назад изменило зрение человека, так же как и включение искусства в городскую культуру стало причиной трансформацией восприятия искусства для зрителя. Поэтому, с одной стороны, современные выставочные проекты представляют собой синтетическое художественно-культурное пространство, ориентированное на суггестию и формирование альтернативных моделей мира. С другой стороны, публичное искусство, уличные арт-практики выросли в отдельное глобальное явление. Не случайно большие и локальные арт-события пытаются сегодня выйти за рамки стен музейно-галерейных зданий, захватить как городское пространство, так и виртуальные площадки.
Вальтер Беньямин в незаконченном «Эссе о пассажах», опубликованном как «Париж - столица XIX столетия», отмечает влияние окружающей среды на виденье мира: «Создавая обманчивые имитации природных процессов, панорамы предвосхищают то, что последовало за фотографией – кино и звуковое кино. Вместе с панорамой возникла панорамная литература» [2]. Визуальный образ как способ описания культурного или эмоционального опыта в эпоху Интернета и мобильных средств связи стал ведущим. Это влияет на мир искусства. Естественно, сложно недооценить влияние на визуальное восприятие развития новых медиа. Во много исследователи связывают изменение визуального восприятия именно с развитием технологий от М. Маклюена до Л. Мановича, от У. Митчела до М. Кастельса. Последние десятилетия, когда виртуальность стала неотъемлемой частью нашей жизни, растёт поколение, воспитанное на цифровом видеоряде; возникают новые концепции понимания данного феномена; формируются новые тенденции понимания и презентации искусства, соответствующие данной реальности.
В современной урбанистике особое место отведено визуальному направлению, которое связывают с анализом городского пространства как визуальной системы. Зрительное ощущение пространства составляет основу визуального структурирования образа города [5, с. 87]. В рамках данной области исследования лежит анализ визуальных кодов городского пространства, изучается влияние художественной образности, формально-стилистических приёмов на горожан. Так искусство оказывается одним из инструментов формирования современного городского пространства, в том числе и через манипулирование культурными кодами. Арт-со-бытия не локализуются в конкретном здании, а распространяются по окружающей территории. В 2015 г. биеннале, сделанную куратором Массимилиано Джони, посетили около полумиллиона человек. В сравнении с количеством посетителей больших выставок это не так много. Например, ретроспективу Д. Херста в галерее Тейт посетило более пяти миллионов. Но в данном случае можно говорить не только о количестве, но и о качестве аудитории, которая благодаря событию изменяет городское пространство, влияет на восприятие города как извне, так и самими жителями. Такой подход характерен и для ярмарок. Ярмарка Art Basel одна из первых стала предлагать площадки для демонстрации альтернативных, часто масштабных проектов. В разделе Unlimited регулярно показывают крупные скульптуры и инсталляции, видеопроекции, перформансы, ряд из которых созданы специально для ярмарки и предназначены для презентации в городском пространстве. Это также привлекает в город на время события не только любителей искусства.
Общество
Общество. Среда. Развитие № 4’2023
Современные города часто представляют собой большое разнообразие стилей, объектов, которые никак не объединены. Из-за этого факта во многих городских структурах образуются лакуны, которые подвергаются разного рода художественной обработке. Тактический урбанизм обращает на это внимание и задействует «краткосрочные, низкие по себестоимости и масштабируемые вмешательства и эксперименты» [6, с. 189]. Не случайно в концепции «креативного города» ведущего английского урбаниста и специалиста по развитию городов Ч. Лэндри центральным понятием выступает «культура» [6, с. 189]. Ярким примером музеефикации, включения в культурный контекст индустриального объекта является Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге. Данный объект подходит под термин ревитализации – возвращение к жизни, повторное использование заброшенного архитектурного объекта. В случае с Музеем стрит-арта для реализации выставочной деятельности была использована пустующая часть территории действующего завода слоистых пластиков. Уличное искусство сегодня наравне с архитектурой, рекламой является голосом, который звучит в городе. Каждый из этих типов имеет собственный подход к визуальной коммуникации. Урбанистические и культурологические исследования говорят о том, что город и улица наполнены разного рода символами, и каждый из типов символов направлен на определённую целевую аудиторию.
В эпоху цифровизации возникают и новые феномены визуальной урбанистики, связанные с развитием медиа. В книге «Пиратская современность: медиаурбанизм Дели» Рави Сундарам пытается отразить трансформацию города под влиянием медиа и технологий, через идею «испарения границ между технологиями и городской жизнью», которое привело к «дезориентации чувств» [23, р. 5]. Автор на примере Дели рассматривает «драматический живой опыт, вызванный мерцающими фильмами, телевидением, рекламой и мобильными экранами» [23, р. 7]. Рави Сундарама существенно расширяет понимание модели городской визуальности, показывая неоднозначность её влияния на современного человека. В рамках изучения влияния медиа на образ городской среды необходимо упомянуть и анализ геомедиа, который подробно разрабатывается С. Маккуайром. «Геомедиа — это концепт, который кристаллизуется на пересечении четырёх взаимосвязанных траекторий: конвергенции, повсеместности, учёте геолокации и обратной связи в режиме реального времени» [7, с. 12]. Автор демонстрирует, как геопозиционирование влияет на восприятие мира современного человека, воздействует на пространственно-образное мышление. Отдельное направление исследований связано с анализом визуальной репрезентацией городской среды, например, труд «Гражданский договор фотографии» Ари-эллы Азулай, созданный не без влияния идей С. Сонтаг, переключает внимание на то, как средства массовой информации воссоздают городской опыт и повседневную политику [10]. Влияние исследуемых авторами феноменов на визуальное восприятие современного человека сложно недооценить. Прозрачность, нечёткость границ виртуального и реального связана не только с работой профессиональных институций, но основано и на действиях активных наблюдателей, которых трудно контролировать.
Критическая теория позволяет увидеть и двойственность понимания городской среды в урбанистических концепциях, которые, с одной стороны, представляют городское пространство как вдохновляющее на саморазвитие и счастье гуманистическое место со-бытия людей, а с другой, демонстрируют, как мягкие стратегии власти через устройство городской среды подчиняют себе человека, о чём писал в «Пассажах» В. Беньянин. Н. Мирзоев, исследуя особенности современной визуальной культуры, говорит о высокой скорости создания и потребления визуальных артефактов, снижении критического мышления [22, р. 114]. Независимые художники в такой ситуации часто видят своей миссией создание ситуаций, провоцирующих критическое мышление по поводу определённых событий или явлений. Художники продолжают использовать городскую среду, её визуальные коды для провокации зрителя, критики городского устройства. Так, московский художник Кирилл Кто определённое время писал на внешних кондиционерах, трансформирующих вид фасадов зданий, фразу «Торчит и капает», подчёркивая определенный аспект городской жизни и привлекая внимание к визуальной засорённости города. Для ряда зрителей точка зрения независимых от больших институций арт-рынка игроков видится более честной. Это одна из причин, почему аукционные дома и другие традиционные профессиональные институции больше не оказывают тотального влияния на предпочтения покупателей и коллекционеров.
Любой акт фиксации наблюдения становится основой для генерации новых данных, влияет на контекст восприятия определённых объектов и феноменов. Данный эффект активно используется независимыми художниками и арт-ин-ституциями. Традиционные авторитеты мира искусства (музеи, аукционы, галереи) также осуществляют экспансию на новые виртуальные территории. Растущую популярность новых независимых арт-инсти-туций и ярмарок среди прочих факторов можно объяснить отставанием традиционных от актуальных культурных стратегий. Скандал потряс арт-рынок в январе 2000 г., когда главный исполнительный директор Christie’s Кристофер Дэвидж предоставил Министерству юстиции США убедительные доказательства прошлого сговора между Сотбис и Кристи по поводу фиксации комиссионных ставок [15]. На глобальном уровне наблюдается постепенное перераспределение властного капитала в пользу мультиполярного мира искусства, в котором свой голос уже сейчас кроме традиционных Нью-Йорка, Лондона, Базеля имеют такие города как Пекин, Гонконг и другие центры. Для ряда любителей искусства поисковые системы и мнение любимого блогера (не связанного с арт-миром) оказывается важнее рекомендаций искусствоведов и кураторов. Это ярко продемонстрировал выход торгов ведущих художественных аукционов в онлайн-пространство. Недоверие к непрозрачному официальному миру искусства дает возможность альтернативным небольшим художественным организациям найти своего зрителя, при том, что небольшие независимые институции часто грамотно используют возможности современных технологий и чётко представляют свою целевую аудиторию.
Визуальный поворот или повороты не являются целостной концепцией в гу-манитаристике, скорее могут быть поняты как дискурс, состоящий из различных точек зрения. Достижения визуального поворота не отменяют другие методы анализа произведений и феноменов искусства, а скорее стараются придать изучению визуального новые смыслы. Отдельный вопрос – это критика актуальной визуальной культуры, идущая как в рамках научного, так и творческого дискурсов.
В современной парадигме понимания визуальности можно выделить ряд важных тенденций, которые находят отклик не только в рамках гуманитарных дискуссий, но и на арт-рынке, осмысляются художниками и зрителями. Первая тенденция – это двойственность понимания визуального образа, который для большой части аудитории не воспринимается без призмы новой этики и чувствительности, поэтому контекстный подход в формировании арт-события и презентации феноменов искусства на арт-рынке сейчас можно назвать ведущим. Вторая тенденция – это критический подход к позиции автора, создателя проекта. В рамках этого процесса арт-рынок вынужден не просто подстраиваться под новые целевые аудитории, но изменяться под влиянием новой этики. В рамках этого процесса идёт и постепенное формирование новых центров искусства. Третья тенденция - это усиленное электронными средствами коммуникации включение искусства в повседневный визуальный опыт. Здесь важными моментами стало развитие медиатехнологий, формирование медиаурбанистики, в рамках которых арт-рынок и независимые институции производят экспансию на городскую территорию, оставляют визуальный след в публичных пространствах. Следующая тенденция - это замена профессионального мнения эмоциональным отношением к феноменам искусства. Знания и экспертная оценка, если дело не идёт о вторичном рынке искусства, идут после эмоционального контекста восприятия произведения. Важным в обществе со сниженной критической позицией становится процесс обращения визуальных образов, связанных с повседневностью, культурными ценностями, и идеологий, которые предлагают готовые представления о тех или иных феноменах. Если в рамках вербальной культуры для описания собственного эмоционального состояния использовались литературные цитаты, то сегодня на их место приходит статичный или динамичный визуальный образ. Показательна популярная сегодня маркетинговая стратегия визуализации личного эмоционального потрясения, боли для стимулирования к профессиональному успеху, распространение визуализированных схем пути к самореализации и призрачному счастью.
Визуальный поворот, таким образом, позволяет понять процессы, идущие в современной культуре и искусстве не как кризис, а как кризисное состояние, сопровождающее знаковые изменения. Процессы, идущие на арт-рынке, могут быть восприняты и как симптом смены оптики восприятия визуального опыта, и как пространство формирования нового культурного опыта.
Общество
Список литературы Арт-рынок и визуальный поворот в культуре
- Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. – М., 1986. – С. 464–488.
- Беньямин В. Париж, столица XIX столетия // В. Беньямин Озарения. – М., 2000. – С. 153–167.
- Дебор Ги. Общество спектакля. – М.: АСТ, 2022. – 256 с.
- Дебор Ги. Психогеография. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. – 112 с.
- Димитриади Е.М., Сапанжа О.С. Визуальная урбанистика: определение понятия, проблемы // Вестник культуры и искусств. – 2021, № 2. – С. 84–91.
- Лэндри Ч. Креативный город / Пер. с англ. – М.: Классика-ХХI, 2006. – 399 с.
- Маккуайр С. Геомедиа. – М.: Strelka press, 2018. – 268 c.
- Рехт Р. Верить и видеть. Искусство соборов XII–XV веков. – М.: Изд-во ВШЭ, 2018. – 352 с.
- Хук Ф. Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продаёт. – СПб.: Азбука, 2018. – С. 123–157.
- Azoulay A.The Civil Contract of Photography. – Zone Books, 2012. – 586 р.
- Boehm G. Representation, Presentation, Presence: Tracing the Homo Pictor, in: Iconic Power. Materiality and Meaning in Social Life / Ed. by Jeffrey C. Alexander, Dominik Bartmanski, and Bernhard Giesen. – New York 2012. – P. 15–23.
- Boehm G. “The Return of the Images”, What is an Image?” / Iconic Turn. The New Power of Images, edited by Christa Maar and Hubert Burda, DuMont. – Köln, 2004. – Р. 36–37.
- Boehm G., Mitchell W. Pictorial Versus Iconic Turn: Two Letters // The Pictorial Turn / Ed. by Neal Curtis, Routledge. – London & New York, 2010. – 338 р.
- Bertolini M. The “Pictorial Turn” as Crisis and the Necessity of a Critique of Visual Culture // Philosophy Study. – 2 015. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.academia.edu/17116595/The_Pictorial_Turn_as_Crisis_and_the_Necessity_of_a_Critique_of_Visual_Culture
- Britannica – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.britannica.com/topic/art-market/The-rise-of-London
- Craven D. The New German Art History: From Ideological Critique and the Warburg Renaissance to the Bildwissenschaft of the Three Bs // Art in Translation. – 2014, vol. 6 (2). – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/175613114X13998876655059
- Dahan A. Joseph Kosuth On Art Market // A. Dahan, Purple Fashion Magazine. Spring/Summer. – 2014, iss. 21. – Интернет-ресурс. Режим доступа: https://www.skny.com/attachment/en/56d5695ecfaf342a038b4568/Press/56d56994cfaf342a038b65e1
- Herrnstein S.B. Contingencies of Value: Alternative Perspectives for Critical Teory. – Cambridge, MА: Harvard University Press, 1988. – 264 p.
- Karpik L. Valuing the Unique: The Economics of Singularities. –Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010. – 288 p.
- Mitchell W.T. The Pictorial Turn. – Routledge, 2011. – 256 p.
- MitchellW. T. Showing Seeing: A Critic of Visual Culture, ibid., What do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. – Chicago and London: The University of Chicago Press, 2005. – Р. 336–356.
- Mirzoeff N. An Introduction to Visual Culture. – London: Routledge, 1999. – 274 р.
- Sundaram R. Pirate Modernity: Delhi’s Media Urbanism. – Oxford, New York: Routledge, 2010. – 224 p.