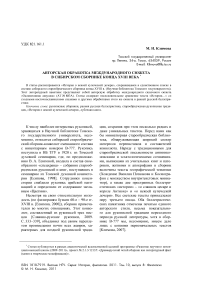Авторская обработка международного сюжета в сибирском сборнике конца XVIII века
Автор: Климова Маргарита Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник: от средневековья к новому времени
Статья в выпуске: 8 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается «История о некоей купеческой дочери», сохранившаяся в единственном списке в составе сибирского старообрядческого сборника конца XVIII в. (Научная библиотека Томского госуниверситета). Этот литературный памятник представляет собой авторскую обработку международного сказочного сюжета «Оклеветанная девушка» (AT № 883A). Статья содержит последовательное сравнение текста «Истории…» со сходными восточнославянскими сказками и другими обработками этого же сюжета в ранней русской беллетристике.
Рукописные сборники, ранняя русская беллетристика, старообрядческая рукописная традиция, "история о некоей купеческой дочери", лубочная книга
Короткий адрес: https://sciup.org/14737587
IDR: 14737587 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Авторская обработка международного сюжета в сибирском сборнике конца XVIII века
К числу наиболее интересных рукописей, хранящихся в Научной библиотеке Томского государственного университета, несомненно, относится сибирский старообрядческий сборник-конволют смешанного состава с инвентарным номером В-777. Рукопись поступила в НБ ТГУ в 1920 г. из Томской духовной семинарии, где, по предположению В. А. Есиповой, входила в состав своеобразного «спецхрана» – собрания старообрядческих рукописей и книг, поступавших в семинарию из Томской духовной консистории [Есипова, 1998]. Сотрудники консистории снабдили рукопись арабской пагинацией и определили ее содержание заглавием «Цветник».
Несмотря на свою относительную молодость (по филиграням бумаги 60-е – 90-е гг. XVIII в. [Есипова, 2000]), сборник примечателен во многих отношениях. Этот конволют, составленный из рукописей трех писцов [Славяно-русские рукописи, 2009. С. 333–339], объединил под своим переплетом произведения почти всех жанров, характерных для поздней рукописной тради- ции, сохранив при этом несколько редких и даже уникальных текстов. Перед нами как бы миниатюрная старообрядческая библиотека, обнаруживающая широкий спектр интересов переписчиков и составителей конволюта. Наряду с традиционными для старообрядческой письменности антинико-новскими и эсхатологическими сочинениями, выписками из учительных книг и патериков, житиями и апокрифами в сборник включены тексты географической тематики (Хождение Василия Познякова и Космография с множеством внутритекстовых миниатюр), а также две пространных беллетристических «истории» – «о славном цесаре и короле Антиохе» и «о некоей купеческой дочери». Все светские тексты принадлежат перу третьего писца. Оба беллетристических памятника отмечены печатью единого авторского стиля, весьма показательного для рукописной традиции переходного периода русской литературы, хотя в сборнике В-777 мы, несомненно, имеем дело лишь с копиями первоначальных текстов [Климова, 2007].
Первая из названных «историй» – обработка популярной Повести об Аполлонии Тирском, текст которой в XVIII в. неоднократно подвергался модернизации [Соколова, 1980]. (Впрочем, взаимоотношения томского списка Повести с ее шестнадцатью редакциями, созданными в это столетие, еще предстоит выяснить.) Пристального внимания заслуживает другой беллетристический памятник – «История о некоей купеческой дочери и о ея злострадании, како много претерпе от зависти любовной» (л. 239 – 264 об.) [Климова, 2003]. Это оригинальная русская вариация одного из международных сюжетов о невинно гонимой женщине, имеющего обширную фольклорную и литературную традицию. Определение места томского текста в этой традиции – задача данной статьи.
Сюжеты о злосчастной судьбе невинно гонимой женщины (дочери-падчерицы, сестры, жены, невестки) известны в мировой литературе и фольклоре с глубокой древности и получили широчайшее распространение. Такие сюжеты, множась и контаминируя, легли в основу всемирно известных сказок (эволюция некоторых сюжетов о невинно гонимой женщине в восточнославянском сказочном фольклоре рассмотрена Т. В. Зуевой [1995]). Они в течение столетий питали новеллистические сборники и народные книги, их схемы и отдельные сюжетные ходы живы до сих пор в произведениях массовой культуры. В основу «Истории о некоей купеческой дочери…» положен сказочный сюжет AT № 883А «Оклеветанная девушка»: «…во время отъезда отца дядя пытается соблазнить племянницу; клевещет на нее; отец велит сыну убить сестру; она спасается и выходит замуж за царевича; ее хочет соблазнить офицер (слуга); убегает в мужской одежде к отцу; истина открывается» [Сравнительный указатель…, 1979. С. 223].
Этот сюжет известен большинству европейских народов (впервые зафиксирован в «Пентамероне» Дж. Базиле), в виде новеллистической сказки он обнаруживается также в записях, сделанных в Америке на европейских языках, в балканском, арабском, турецком, индийском фольклоре, в Закавказье, на Ближнем и Среднем Востоке, а также у некоторых неславянских народов, входивших в состав Российской империи [Народные русские сказки…, 1985. С. 406].
Восточнославянских записей сказки известно около 30: наиболее ранняя включена в лубочную книгу «Старая погудка на новый лад» (1795), самые поздние из известных нам датируются 70-ми гг. XX столетия. В русской рукописной традиции обнаружено пока единственное соответствие интересующему нас тексту – переводная «Гистория об италианском купце Феодоне, и о дочери его Освилберде и о гишпанском министре Ордоне». «Гистория…» сохранилась в единственном списке последней четверти XVIII в. 1 и была подробно исследована С. Ф. Елеонским [1959], но до сих пор не опубликована. Впрочем, этот же сказочный сюжет в упомянутом лубочном издании был подвергнут столь сильным изменениям книжного характера, что это позволяет рассматривать итоговый текст «Об Аксинье купеческой дочери» в качестве еще одной, третьей по счету русской литературной обработки сюжета AT № 833A (отметим, что все три зафиксированы практически в одно время).
Одновременное бытование нескольких произведений на один и тот же международный сюжет, переводных и оригинальных, – не редкость в русской литературе переходного периода. Так, знаменитый сюжет о герое, невольно убившем отца и вступившем в брак с матерью («Эдипов сюжет»), в русской рукописной традиции XVII–XIX вв. представлен целой группой повестей о кровосмесителе [Климова, 2000]. В трех обработках известен в русской литературе переходного периода популярный новеллистический сюжет об украденной жене [Лихтман, 1976]. Примеры такого рода можно было бы продолжать. Выяснение причин популярности того или иного сюжета, а также своеобразия каждой из его модификаций не только интересно само по себе, но и позволяет уточнить общую картину становления отечественной беллетристики. Попытаемся рассмотреть в таком ракурсе выявленные обработки сюжета «Оклеветанная девушка».
Действие сюжета AT № 883А концентрируется вокруг основного персонажа – злосчастной «оклеветанной девушки». Героиня сказки, с одной стороны, наделена необычайной женской привлекательностью, заставляющей мужчин забывать о родственных связях, служебном долге и сословных ограничениях, – ее преследуют любовными домогательствами родной дядя, в русских сказках обычно лицо духовного звания, и слуга ее мужа-царя, некогда столь же пылко полюбившего найденную им в лесу красавицу. С другой стороны, при всем своем злосчастье «оклеветанная девушка» отнюдь не беспомощна и вполне может постоять за себя – отвага и предприимчивость, а также дар красноречия и талант рассказчицы неоднократно спасают ее от смерти и позволяют добиться воссоединения с родными и наказания обидчиков. Динамично развивающийся и драматичный сюжет, дающий простор для развертывания сказительского мастерства, обеспечил этой сказке внимание самых талантливых народных исполнителей.
Как давно заметили фольклористы, составители «полного собрания древних простонародных сказок» «Старая погудка на новый лад» (1795) подвергли используемый ими фольклорный материал литературной обработке. Удачная в ряде случаев, такая обработка подчас сильно искажала исходный текст. К числу неудач следует отнести и сказку «Об Аксинье купеческой дочери». Лубочный вариант сюжета AT № 883А изложен тяжелым и канцелярски-сухим языком, замедляющим динамичное развитие сказочного действия. Произвольно изменен при этом и сам сюжет, из которого исчез основной движитель – преследующая героиню «любовная зависть» (в лубочной сказке дядя покушается на жизнь героини из-за наследства, генерал – из-за того, что король женился не на его дочери). «Аксинья купеческая дочь» лишена жизненной активности своей фольклорной предшественницы. Ее пассивно-страдательная роль четко прослеживается на протяжении всей лубочной сказки – например, покинув помимо воли родной дом, она не скитается несколько лет в лесу, а пущена братом по морю в засмоленном судне. Показательно также, что после покушения генерала она возвращается к супругу, который наказывает ее обидчика и сам устраивает встречу жены с родными, отчего этот эпизод явно проигрывает фольклорным текстам в драматизме и увлекательности. Эта обработка сказки осталась в стороне от магистрального направления развития ее сюжета и на последую- щие фольклорные пересказы влияния не оказала.
Обе рукописные обработки сюжета – «Гистория об италианском купце Феодо-не…» и «История о некоей купеческой дочери…» – в сюжетном отношении несколько отличаются от соответствующих народных сказок. Перечислим их основные отличия: 1) героиня оклеветана не дядей-священником, а управителем («гофмейстером»), на которого оставил дом перед отъездом ее отец; 2) замуж она выходит за человека нецарского происхождения – министра или «резыдента» (в фольклорной новеллистической сказке брак с царевичем – явный рудимент генетически предшествующего сказочного жанра – сказки волшебной); наконец, 3) замужней героине угрожает не домогающийся ее царский слуга, но невзлюбившая невестку злая свекровь, пытающаяся убить ее руками слуг или еще одного управителя. Последнее изменение С. Ф. Елеонский справедливо объяснял влиянием других сюжетов о гонимой женщине – см., например, такие популярные тексты, как Повесть о царице и львице или сказка «Безручка» (AT № 706). По наблюдению С. Ф. Елеонского, вторичность этой замены доказывает финал «гистории», в котором оба «гофмейстера» наказываются за любовное преследование героини, а о наказании свекрови ничего не говорится; так же, вероятно, обстояло дело и в истории купеческой дочери, окончание которой утрачено. Любопытно отметить, что автор истории о купеческой дочери использует в этом случае и еще один сказочный мотив – злодейка-свекровь здесь называется не матерью, но мачехой «резыдента».
Действие «Гистории об италианском купце Феодоне…», на переводное происхождение которой указывают сохранившиеся в тексте полонизмы, последовательно развертывается «во второй нынешнего света части, то есть Европе» – «столичном граде Неаполе», «Гишпании» и «Цесарии». Ее герои ведут условно западноевропейский образ жизни – посылают письма с нарочным курьером, поют жалостные арии, убивают друг друга «спажным заколением» и т. п. Процесс русификации сюжета едва намечен. Например, в начале «гистории» Феодон вместе с женой и сыном уезжает «для поклонения святым местам», но в дальнейшем, по наблюдению С. Ф. Елеонского, «святой град Ерусалим» смешивается с известным торговым центром «Арлимом», т. е. Гарлемом.
В основу томского списка положен текст, сюжетно близкий переводной «гистории», однако можно заметить и ряд существенных отличий. Детальное сравнение обоих текстов может стать темой специального исследования, здесь же отметим лишь некоторые из этих отличий.
Во-первых, процесс русификации сюжета, слабо проступающий в тексте «гистории», в томском списке заметно продвинулся вперед. Фантастический мир, в котором живут и действуют купеческая дочь и другие герои «истории», причудливо соединяет черты Востока и Запада с реалиями русского быта. Действие начинается «в странах восточных в граде Париж», который в дальнейшем относится к владениям «кесаря Фридорфа», при дворе французского короля, в Португалии и «прочих Европиях». Письмо в Иерусалим, составленное по правилам российских письмовников («Милостивый мой государь имярек!..»), отправляется через ямской двор и доставивший его «почтарь» получает «награду за прогон». Набожная героиня, собирающаяся в церковь в день «великого праздника» (в «гистории» ему соответствует день рождения купеческой дочери), прихорашивается перед «большим и французским зеркалом». Король посещает дом «резыдента» «с короле -вою своею, с визирами и паши и со всем енералитетом». Последовательная замена касается не только варваризмов, но и значительной части заимствованных слов. Например, в «гистории» красота и моральная стойкость героини уподобляются «адаманту» и «бралианту», в то время как безымянная купеческая дочь сияет меж прочими девицами «аки камень-яхонт». Примеры такого рода можно было бы продолжать долго.
Во-вторых, ряд эпизодов в томском списке изменен и существенно расширен. Внесенные дополнения, как правило, носят импровизационный характер и мало связаны с текстом в целом. Если Асвильберда (имена героев «гистории» в самом ее тексте отличаются от приведенных в заглавии) охлаждает любовный пыл гофмейстера пощечиной, то за ту же провинность купеческая дочь велит публично наказать управителя плетьми и ссылает его на время в мужицкую избу. Такие подробности, во-первых, противоречат кроткому и незлобивому характеру героини, во-вторых, наличие многочисленных свидетелей практически вынуждает управителя к клевете, наивность же самой героини, не принимающей это обстоятельство в расчет, неправдоподобна до нелепости. Если в фольклорных сказках брат героини для исполнения жестокого приказа отца завозит ее в лес, то в томском тексте купеческие дети отправляются туда во главе роскошного выезда с целым эскортом слуг и многочисленными гостями, но о том, как брат объяснял позднее всем этим людям исчезновение хозяйки, не говорится ни слова. Не имеют соответствий в «гистории» и два пространных эпизода томского текста, касающиеся женитьбы «резыдента» и покушения на героиню, организованного злой свекровью. Если «гишпанский министр Ор-доний» делает предложение Асвильберде при первой же встрече в лесу и в дальнейшем соединяется с ней в браке со сказочной легкостью, то свадьбе «резыдента» и его избранницы, напротив, предшествуют тяжелые испытания. Герою понадобится немалое мужество, чтобы противостоять желанию короля женить его на другой девушке, а купеческой дочери придется выдержать состязание с первыми красавицами французского двора в красоте и «политичности». Соответственно в переводной «гистории» свекровь после покушения на убийство Асвильберды объявляет об ее исчезновении, и Ордоний отправляется на поиски жены. В томском списке злая мачеха «резыдента» сообщает ему, а также королю о внезапной болезни и скоропостижной смерти «енеральши» и ее детей. Такой поворот сюжета требует рассказа об устроенных злодейкой мнимых похоронах с помощью специально изготовленных «восковых болванов» и при участии подкупленного епископа. Герой, в это время посол в Португалии, по получении горестного известия решает не возвращаться на родину, оставляет дипломатическую службу и удаляется в странствия «жаловаться небу и земле», пока не оказывается на родине своей жены. Любопытно, что измена героя служебному долгу (на наш взгляд, навеянная сходным эпизодом Повести об Аполлонии Тирском) не вызывает осуждения ни у повествователя, ни у кесаря Фридорфа, с сочувствием приглашающего героя к себе на службу. Отчетливо проступающие в этом тексте смысловые оппозиции «природная красота – роскошное убранство» и «частная жизнь – служебный долг» с явным предпочтением первых членов оппозиций вторым также не находят соответствий в «гистории».
В поступках героев «истории» и авторских комментариях к ним, как и в окружающем их быте, причудливо соединились черты старого и нового. Как в старинном «душеполезном» сказании, бедствия и счастливые избавления героев являются результатом «дьявольских козней» и «Божьего милосердия» (впрочем, однажды упоминается и «всезлобная Фортуна»). Соответствует традициям религиозно-дидактического повествования первоначальный облик героини, а также ее отца. (Так, в отличие от Асвильберды, образованию которой автор «гистории» уделяет особое внимание, героиня томского списка в родительском доме не видела ничего «кроме святых церквей и честных обителей».) Однако главный мужской персонаж – «резыдент», уже вполне отвечает представлениям об идеальном герое галантных повестей петровского времени. Даже в наставлениях купца дочери перед отъездом, близких, казалось бы, старинному жанру «отеческих преданий», звучат новые ноты: он, например, советует ей не стесняться следовать подсмотренным у других добрым обычаям. Поэтому не удивительно, что его скромной и набожной дочери удается в дальнейшем покорить французский двор «церемональною поступкою» и «политичным обхождением». Но, с честью выдержав это испытание при поддержке «Божьего милосердия» и благодаря «природной своей остроте и хорошей науке», та же героиня оказывается поразительно наивной и беспомощной в столкновении с коварством свекрови, что определяется ее основной ролью кроткой и невинно гонимой жертвы. Впрочем, находчивость и ум героини, как и в народной сказке, должны были проявиться в финале «истории», к сожалению, утраченном.
Значительная часть томского списка уделена фантастическим описаниям придворного быта, а также «политичному» обхождению персонажей друг с другом. Немалое место отводится изображению «коварной политики» – разного рода хитростей, которыми герои, злые и добрые, прикрывают свои истинные намерения (вроде упомяну- тых ранее «восковых болванов»). Такие описания зачастую лишены житейского правдоподобия, но, несомненно, занимательны. Заслуживают упоминания и черты своеобразного «сентиментализма» этого повествования: несомненное внимание автора к переживаниям своих героев, впрочем, изображенным весьма наивно и схематично, и его нескрываемое сочувствие их «злостра-даниям», происходящим на фоне столь же чувствительной «натуры»: «…и плакала столь жалостно и умильно, мню, яко плакали с нею все леса и дубравы». Подобная «чувствительность» отличает также и обработку истории Аполлонии Тирского, включенную в сборник В-777, что позволяет отнести ее к особенностям авторской трактовки сюжетов.
Подведем итоги наших наблюдений. Сравнение русских литературных обработок сюжета AT № 883А показывает, что «Гистория об италианском купце Феодоне…» и «История о некоей купеческой дочери…» запечатлели разные этапы приспособления исходного западноевропейского беллетристического текста к читательским потребностям переходной эпохи. При этом «гистория», хотя и сохранившаяся в позднем списке, представляется стадиально более ранней. Восточнославянские фольклорные версии сюжета, неудачной литературной адаптацией одной из которых была лубочная сказка «Об Аксинье купеческой дочери», сосуществуют с его письменными обработками, как правило, параллельно. Впрочем, наблюдаются, на наш взгляд, и немногочисленные случаи литературного влияния на некоторые фольклорные пересказы сюжета. Так, в отличие от большинства народных сказок с дядей-клеветником, в смоленской записи, сделанной В. Н. Добровольским, на девушку клевещет безнадежно домогающийся ее «прикащик» [Смоленский этнографический сборник, 1891. С. 366–372]. Привлечение рукописных материалов позволяет уточнить и некоторые представления фольклористов, например, ставит под сомнение категоричность утверждения, что перенесение действия сюжета AT № 883А в купеческую среду – типично восточнославянская особенность его бытования [Народные русский сказки…, 1985. С. 406]. В целом же изучение этих ранних памятников русской массовой литературы при всем их художественном несовершенст- ве представляется весьма показательным для эпохи перехода от древнерусской словесности к художественной литературе Нового времени. Томский список «Истории о некоей купеческой дочери…», сохраненный переписчиком-старообрядцем, расширяет, кроме того, наши представления о круге чтения и художественных пристрастиях в сибирской старообрядческой среде.
AN ORIGINAL ADAPTATION OF AN INTERNATIONALLY KNOWN TALE IN A LATE 18TH CENTURY SIBERIAN MANUSCRIPT