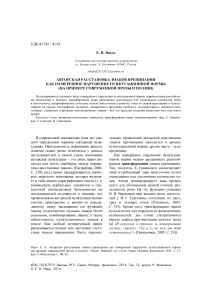Авторская расстановка знаков препинания как намеренное нарушение пунктуационной нормы (на примере современной прозы и поэзии)
Автор: Ищук Екатерина Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.13, 2014 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются основные виды намеренного нарушения пунктуационной нормы современными российскими писателями и поэтами: трансформация знака препинания (увеличение или уменьшение количества точек в многоточии), ненормированное сочетание знаков (многоточия и запятой), отказ от знаков препинания и использование на письме типографских (астериск, квадратные и фигурные скобки) и «компьютерных» значков (слеш, «собака», смайлики) в функции пунктуационных знаков - всё это средства создания идиостиля того или иного автора.
Авторская пунктуация, идиостиль, трансформация знака, "компьютерный" знак, е. гришковец, с. соколов, н. скандиака
Короткий адрес: https://sciup.org/147219211
IDR: 147219211 | УДК: 81''367
Текст научной статьи Авторская расстановка знаков препинания как намеренное нарушение пунктуационной нормы (на примере современной прозы и поэзии)
В современной лингвистике пока нет единого определения термина «авторская пунктуация». Наполняемость дефиниции данного понятия может резко отличаться у разных исследователей: в самом узком понимании авторская пунктуация – это лишь право писателя или поэта «выбирать между вариантами расстановки знаков» [Евграфова, 2004. С. 239]; ряд ученых придерживается, наоборот, широкого понимания, которое включает в себя анализ параграфемики текста (т. е. взаимосвязи вербальных элементов и плоскостной синтагматики). Большинство же исследователей склоняются к мнению, что проявлениями авторской пунктуации можно считать пристрастие к какому-то определенному знаку, расширение его функций, замену недостаточно сильных знаков более сильными, комбинирование знаков, а также избыточность пунктуационных знаков в тексте. Как особый литературный прием расценивается полное или частичное отсутствие знаков препинания. Часть перечис- ленных проявлений авторской расстановки знаков препинания находится в рамках пунктуационной нормы, другая часть – за ее пределами.
Как намеренное нарушение пунктуационной нормы можно расценивать разнообразные трансформации знаков препинания. Так, писатель Е. Гришковец видоизменяет свой излюбленный знак многоточие путем уменьшения или увеличения количества точек. Автор трансформирует знак прежде всего для обозначения разной степени раздельности речи. На эту функцию указывал В. И. Чернышев при анализе роли многоточий у И. С. Тургенева, состоящих из двух, трех и четырех точек [Розенталь, 2004. С. 355]. Кроме того, трансформация знаков используется для передачи ее фонетических особенностей: две точки употребляются вместо дефиса при имитации долготы звука [а] ( И вернулся к столику , и , перекрикивая музыку , спросил: «Та..а..к , на чем мы тут остановились?» [Гришковец, 2005. С. 24]).
Ищук Е. Н. Авторская расстановка знаков препинания как намеренное нарушение пунктуационной нормы (на примере современной прозы и поэзии) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 9: Филология. С. 88–92.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 9: Филология © Е. Н. Ищук, 2014
Увеличение количества точек в знаке происходит и по причине функциональной на-груженности знака: Например , этот стишок про Бычка:
Идет бычок, качается, вздыхает на ходу, Ой, доска кончается сейчас я упа....
Это же про меня! [Там же. С. 27]
В этом предложении знак «....» выполняет несколько функций: показывает пропуск при цитировании предложения, обозначает незаконченность не только высказывания, но и слова и отмечает неожиданный переход от одной мысли к другой (после цитаты следует предложение Это же про меня! ).
Е. Гришковец в романе «Америка» вместо заглавия выносит на обложку книги таинственное для читателей слово А А. Пять точек поставлены на месте недостающих букв названия страны, с которой у главного героя связан ряд ассоциаций, описанных в произведении. Другие случаи увеличения количества точек в тексте самого романа не связаны с языковой игрой. Десять точек подряд автор ставит в местах, наиболее значимых для раскрытия основной идеи текстового отрезка: в конце внутреннего монолога-оправдания героя перед американцами, что русские - нормальные люди .......... [Гришковец, 2010. С. 97]. Это словосочетание повторяется в монологе еще четыре раза, но в союзе с «обычным» многоточием, а также в заключении романа, когда герой, уезжая в Америку, обещает вернуться домой: как и в предыдущем случае, знак из десяти точек предваряет ряд предложений с многоточиями из трех точек.
Индивидуальность пунктуации проявляется также в особом авторском сочетании знаков препинания . Кроме автономного использования многоточия, Е. Гришковец применяет знаки, образованные контаминацией многоточия с другими знаками:
-
1) среди них есть те, которые утверждены правилами (?.. и !..);
-
2) знаки, которые могут быть объяснены правилами (?!.);
-
3) окказиональные знаки, например соединение многоточия с запятой (.., и ,...).
Изобретенные автором знаки становятся многофункциональными, так как объединяют функции всех входящих в их состав знаков. Например, в предложении А это такое лицо.. , что становится просто стыдно за свои переживания [Гришковец, 2005. С. 14]
запятая, которая «выливается» из последней точки многоточия, отделяет в сложноподчиненном предложении главную часть от придаточной. Многоточие, лежащее в основе знака, указывает на неожиданный переход от одной мысли к другой. Знак в целом выполняет обе указанные функции. Его вполне можно заменить обычным многоточием, но автор решил не опускать запятую, чтобы знак препинания более выразительно показал свое двоякое назначение.
Многие знаки препинания у Е. Гришковца образованы по схеме «ЗНАК + МНОГОТОЧИЕ»: «!» + «...» = «!...», а не стандартный «!..». Не объединяя многоточие с другим знаком, а механически приставляя его, автор сохраняет независимость трех точек многоточия, придает этому знаку особый статус и тем самым проявляет особое отношение к нему.
Еще один случай авторской пунктуации - отказ от знаков препинания . Несомненно, это нарушение пунктуационной нормы. Для иллюстрации данного приема обратимся к анализу текста романа С. Соколова «Школа для дураков». Так, одно из предложений первой главы, состоящее примерно из 1 100 слов, пунктуационно никак не оформлено. Явление «речевой лавины» (по терминологии Н. Л. Лейдермана и М. Н. Липовецкого [2006. С. 404]) встречается и в другом предложении, еще более интересном с исследовательской точки зрения: оно насыщено однородными членами и обособленными конструкциями и состоит примерно из 700 слов:
Это пятая зона, стоимость билета тридцать пять копеек, поезд идет час двадцать, северная ветка, ветка акации или, скажем, сирени, цветет белыми цветами, пахнет креозотом, пылью тамбура, куревом <...> но ветка спит, сомкнув лепестки цветов, и поезда, спотыкаясь на стыках, ни за что не разбудят ее и не стряхнут ни капли росы - спи спи пропахшая креозотом ветка утром проснись и цвети потом отцветай сыпь лепестками в глаза семафорам <...> я я мне больно <...> не имеете права я обитаю в садах не кричите я не кричу это кричит встречный тра та та в чем дело тра та та что тра кто там та где там там там Вета ветла ветлы ветка там за окном в доме том тра та том о ком о чем о Ветке ветлы о ветре тарарам трамваи трамваи аи вечер добрый билеты билеты чего нет Леты реки Леты ее нету вам аи цвета ц Вета ц Альфа Вета Гамма и так далее чего никто не знает потому что никто не хотел учить нас греческому <...> слышу вдруг не то поет кто-то не то не та не то не та не то не та нетто брутто Италия итальянский человек Данте человек Бруно человек Леонардо художник архитектор энтомолог если хочешь увидеть летание че -тырьмя крыльями ступай во рвы Миланской крепости и увидишь черных стрекоз билет до Милана даже два мне и Михееву <...> в гущах вереска где Тинберген сам родом из Голландии <...> Тинберген пляшет в прихожей с самого утра и не дает спать поет про кота и наверное очень кривляется [Соколов, 1990. С. 1517].
Первая часть этого непривычно длинного предложения (примерно 30 %) имеет пунктуационное оформление, практически полностью отвечающее современным правилам русского языка (исключение составляет лишь не выделенное запятыми слово наконец, где автор, скорее всего, отдает предпочтение интонационному принципу расстановки знаков). Эта часть предложения отделяется знаком тире, а следующая, бо́ льшая по объему часть (примерно 70 %) не содержит знаков препинания вплоть до заключительной точки. Важно отметить, что именно эта часть структуры предложения характеризуется языковыми экспериментами, проводимыми автором, наличие которых объясняет приблизительность цифр при подсчете. Дело в том, что писатель отделяет некоторые лексемы пробелами как два разных слова (например, билеты [Там же. С. 16]), чтобы актуализировать внутреннюю смысловую связь этого слова с названием реки из древнегреческой мифологии – Леты: вечер добрый билеты билеты чего нет Леты реки Леты ее нету [Там же]. Таким образом, автор, заметив между словами «ритмические и фонические отношения», размыкает «метафорические сцепления» [Лей-дерман, Липовецкий, 2006. С. 404]. Образы начинают жить самостоятельно, а роман переходит в философский план, затрагивая категорию времени и тему смерти. Такие трансформации со словами роднят стиль писателя с языковыми находками В. Хлеб- никова: про иволгу и Волгу [Смирнов, 1988. С. 12].
Отказ от знаков препинания помогает писателю передать непрерывность «потока сознания», а также приблизить свой текст к текстам древности, когда знаки препинания еще не были изобретены. Древние языки – это первая попытка вербального оформления «языка души», который и стремился воспроизвести автор. Такой язык сознания характеризуется резкими скачками в смене темы мысли. Отсутствие знаков препинания и словесные эксперименты – идеальные условия для передачи поворота в ходе размышлений героя: не то не та не то не та нетто брутто Италия итальянский человек Данте человек Бруно человек Леонардо художник [Соколов, 1990. С. 17].
Саша Соколов продолжил модернистскую традицию, но нашел для своих романов собственные способы выделения значимых частей текста при отсутствии знаков – написание слов вразрядку. Этот прием тоже относится к системе пунктуации, хоть и к ее периферии. Написанное вразрядку слово трамваи [Там же] и целая группа слов, которая, по сути, могла бы стать полноценным предложением ( если хочешь уви-деть летание четырьмя крыль-ями ступай во рвы Миланской крепости и увидишь черных стре-коз [Там же]), – это своеобразные знаки препинания, знаки макроуровня, которые также привлекают к себе внимание читателя, выделяют в предложении главное.
Таким образом, обращение к приему «поток сознания» позволяет резко менять тему смыслового отрезка и «приращивать» дополнительные значения, возникающие между стоящими рядом словами, не отделенными знаками. Саша Соколов умело выделяет главное даже в тех частях текста, где знаки отсутствуют, при помощи так называемых «знаков препинания на макроуровне»: написание в разрядку как строчных, так и прописных букв.
Постмодернистской литературе, склонной к языковому экспериментированию, ничуть не уступает, а иногда и превосходит в этом плане современная интернет-литература, т. е. произведения, рожденные и бытующие в Сети. В век компьютеров в тексты пишущих хлынул поток графических средств, не зафиксированных в пунктуационных правилах. Обратимся к текстам одно- го из интернет-авторов, очень популярного в Сети, – поэтессе Н. Скандиака:
на кольца режет себя ( свелось ) и тилось , стает и ниже нижется ( да расставайся уже ) или же лижется еще ближе , ищет себя ище / и у / стоит [Скандиака, 2007.
-
С. 79].
Такое пунктуационное оформление нарушает тот самый договор между пишущим и читающим, ради которого были созданы правила пунктуации (грамматические связи разорваны), но обилие знаков препинания и использование компьютерных значков дают возможность поэтессе не только открыть новые смыслы текста, но и показать свою индивидуальную манеру письма и видения мира. Излюбленными символами для автора являются слеш и скобки. Н. Скандиака употребляет скобки не в традиционном значении, а для построения текста в виде лингвоматематической формулы. Слова ( свелось ) и тилось можно приравнять к фразе свелось и светилось , но первый вариант выглядит более компактным, повторяющаяся часть слова све- как бы «выносится за скобки» в качестве общего элемента. Данный прием противоположен анафорическому повтору и тяготеет к англоязычной поэзии Э. Каммингса. Внутренние значения данных слов вступают в связь, и рождается цепочка превращения одного образа в другой: свелось ^ соединилось ^ при объединении возникло свечение - один из вариантов интерпретации реализованного поэтом приема умолчания. У разных читателей возникнет различное толкование. Тем самым читатель сам выбирает нужные для него смыслы и вступает с поэтом в сотворчество.
Знак «косая черта» (слеш) – это знак альтернативности, отношения или сокращения. У Скандиаки он выполняет не только эти функции. Удачное использование данного значка можно отметить в приведенном выше примере: значение фразы себя ище/ и у/ стоит складывается из неких кубиков «искать себя», «стоять у... » и «устоять» -так вырисовывается образ поиска смысла жизни. Но этот путь сложен в своем преодолении, так же, как сложно воспроизведение стихотворений Н. Скандиаки: знаки в ее поэзии создают пунктуационные позиции там, где их не должно быть в обычной речи, например, внутри слов. Такие позиции можно отнести, по классификации Л. Кольцовой, к дополнительным, комплементарно сильным 1. Из-за таких позиций при прочтении возникают трудности, паузы, остановки. Читателю такое творчество не всегда понятно, болезненно для восприятия, он получает, по И. Кукулину, «личную микротравму» [2010. С. 159]. Однако именно такой пунктуационный сценарий и характеризует идиостиль Н. Скандиаки.
Направление процесса трансформации одного образа в другой задается у Н. Скан-диаки при помощи непарных закрывающих кавычек-«елочек»: рассеянные фрагменты прямого опыта / » рассеяние сухого опыта» [2007. С. 50], сборка рассеянных вместе / » сборка ветров» [Там же. С. 51]. Разные виды кавычек («елочки» и «лапки») могут встречаться в одном контексте, но ни тот, ни другой вид у поэтессы не имеет пары: “чем меня жизнь [проявляла]» [Там же. С. 63].
-
Н. Скандиака параллельно может использовать как круглые, так и квадратные скобки, а также фигурные скобки в значении пиктограммы: листья , падающие на {плечи} всем-семи , уходящим из цвета бельма на глазу птенца клином [Там же. С. 52]. Форма фигурных скобок напоминает изгиб плеч, и именно эта лексема взята в скобки такого типа.
Периферийный знак пунктуации асте-риск (звездочка), обозначая лакуны внутри лексемы, помогает поэтессе нарисовать образ человека неполноценно, половинчатого в понимании истинных ценностей: [полуавтоматический одуванчик. полу*ч*ков*й человек [Там же. С. 59]. При помощи знака «собака» передается манера бессмысленного общения современных людей: их беседа звучит как несмазанная тележка @,--'—, — [Там же. С. 68]. Использование математического знака параллельности показывает, с одной стороны, что находится в состоянии «непересечения» в мировосприятии Н. Скан-диаки: зачем все подбирать? изменить, как сам || поднимаешься и идешь домой [Там же. С. 78] – не соприкасаются образы лирической героини и ее дома, однако она хочет изменить эту ситуацию. С другой стороны, две черты – это идеограмма вертикального направления движения, так как этот знак стоит перед словом подниматься.
Рассмотрев разные варианты форм внедрения небуквенных графических средств в поэтический текст, мы считаем обоснованным расширить традиционную классификацию пунктуационных знаков: наряду с лингвистической и типографской группами знаков, функционирующими в современном письме, выделить особую группу – «знаки клавиатуры», одна из подгрупп которой – «компьютерные» значки («собака», слеш с наклоном в разные стороны и др.). Знаки клавиатуры – периферия системы пунктуации и в то же время их использование – это центральная характеристика идиостиля ин-тернет-поэтессы Н. Скандиаки. Используя дополнительные, комплементарно сильные пунктуационные позиции, поэтесса создает интонационные препятствия для чтения и грамматические нарушения, которые затрудняют понимание смысла и одновременно образуют почву для сотворчества автора и читателя, формируют индивидуальную манеру Н. Скандиаки.
Итак, понятие авторской пунктуации в современном языкознании не имеет четкой дефиниции и включает в себя разнородные явления, которые могут находиться в рамках пунктуационных правил или нарушать норму расстановки знаков препинания. Среди таких намеренных авторских нарушений можно назвать трансформации знаков препинания, необычные сочетания пунктуационных знаков, отказ от знаков препинания и использование различных графических значков, не входящих в общепринятый список знаков препинания, но выполняющих пунктуационные функции. Скорее всего, большинство перечисленных явлений никогда не будет зафиксировано в правилах и всегда будет находиться за рамками пунктуационной нормы (возможно, с развитием компьютерных технологий возникнет необходимость кодифицировать употребление «компьютерных значков»), однако в произведениях писателей и поэтов они играют важную роль и, прежде всего, являются элементом идиостиля того или иного автора.
AUTHOR’S PUNCTUATION AS INTENTIONAL VIOLATION OF PUNCTUATION RULES (RESEARCHED MODERN PROSE AND POETRY)
Список литературы Авторская расстановка знаков препинания как намеренное нарушение пунктуационной нормы (на примере современной прозы и поэзии)
- Гришковец Е. А….А. М.: Махаон, 2010. 256 с.
- Гришковец Е. Планета. М.: Зебра Е, 2005. 240 с.
- Евграфова С. Кто в тексте хозяин? // Языкознание: Русский язык / Под ред. М. Аксеновой. М.: Аванта, 2004. С. 239-240.
- Кукулин И. «Создать человека, пока ты не человек…» // Новый мир. 2010. № 1. С. 155-170.
- Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Рождение русского постмодернизма (А. Битов, Вен. Ерофеев, Саша Соколов) // Лейдерман Н. Л. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: В 2 т: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2006. Т. 2: 1968-1990. С. 375-411.
- Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку: орфография и пунктуация. М.: ОНИКС 21 век, Мири Образование, 2004. 368 с.
- Скандиака Н. Стихотворения // РЕЦ: лi-netературный журнал. 2007. № 46. С. 50-81.
- Смирнов В. Поэзия Велимира Хлебникова // Хлебников В. Избранное. М.: Детская литература, 1988. С. 5-26.
- Соколов С. Школа для дураков / Под ред. Л. Н. Гущина. М.: «Огонек» - «Вариант», 1990. 183 с.