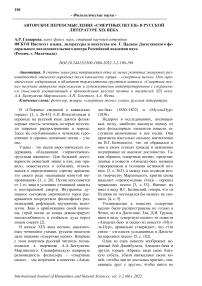Авторское переосмысление «смертных песен» в русской литературе XIX века
Автор: Гашарова А.Р.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3-2 (66), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье нами рассматривается одна из менее развитых жанровых разновидностей эпических народных песен кавказских горцев - «смертные песни». Они лиро-эпического содержания и обладают торжественно-грустным напевом. «Смертные песни» получили авторское переложение и художественно интерпретированы с сохранением смысловой составляющей в произведениях русских поэтов и писателей XIX века: А.А. Бестужевв-Марлинского, Л.Н. Толстого, А.А. Фета.
Фольклор, жанры, «смертные песни», узамы, русская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/170193173
IDR: 170193173
Текст научной статьи Авторское переосмысление «смертных песен» в русской литературе XIX века
В «Сборнике сведений о кавказских горцах» [1, с. 26-43] А.П. Ипполитовым в переводе на русский язык даются фольклорные тексты чеченцев, которые получили широкое распространение в народе. Здесь же опубликованы и чеченские героические и героико-эпические песни - уза-мы.
Узамы - это песни лиро-эпического содержания, обладающие «торжественногрустным напевом». Для большей достоверности сюжетной линии в них, как правило, повествуется о событиях, относящихся к определенному отрезку времени, это своего рода «вызванная минутой импровизация» [1, с. 26]. Песня исполняется от 1-го лица в условиях отчаянной защиты и неотвратимой смерти. Внутреннее душевное состояние лирического героя раскрывается посредством философских размышлений, рефлексий, внутренних монологов. Зная о приближении своей кончины, герой песни до конца демонстрирует непоколебимость и стойкость духа перед лицом смерти [2].
В начале XIX века песням, аналогичным чеченским узамам, русские писатели дали название «смертные песни». Впервые с этим понятием русский читатель познакомился в творчестве А.А. Бестужева-Марлинского. Специфическую жанровую разновидность фольклора - «смертные песни» - мы встречаем в повестях «Амма- лат-бек» (1830-1832) и «Мулла-Нур» (1836).
Недаром в исследованиях, посвященных поэту, наиболее высокую оценку из всех фольклорных элементов повести заслужили включенные в нее песни. Они произвели настолько сильное впечатление на В.Г. Белинского, что он обращался к ним в своих статьях трижды и неизменно подчеркивал их высокое достоинство. Таким образом, «смертные песни», представленные в повести «Аммалат-бек» названы «прекрасными и полными истинной поэзии» [3, с. 362], а между тем, подводя итоги творчеству Марлинского, критик снова выделяет «превосходные стихи - перевод черкесских песен» [3, с. 53]. Именно их имел в виду В.Г. Белинский, говоря, что «и Пушкин не постыдился бы назвать их своими» [4, с. 5].
Упоминаемые в повестях «смертные песни» были распространены не только в Чечне, но и в Дагестане. Так, Д.И. Трунов, имея в виду «смертную песню» из повести «Аммалат-бек» и песню из повести «Мулла-Нур», правильно утверждает, что «эти стихи - отголосок услышанных в Дагестана народных песен» [5, с. 182].
Одна из сцен повести изображает неравный бой Джамбулата, Аммалат-бека и других горцев. Абреки, видя свою близкую гибель, убили кинжалами своих коней, «чтобы они не досталась врагам», связавшись друг с другом, чтобы никто не дрогнул и не побежал, залегли за завалом из трупов коней и поют «смертную песню»: «Слава нам, смерть врагу!» Отметим, что эта деталь не выдумана автором, не исключительна, а типична. Литературовед Л. Семенов утверждал, что эта песня позднее получила «очень широкое распространение на Кавказе» [6, с. 8], полагая, по-видимому, что она (песня - автор) - плод творчества автора. Мы придерживаемся этого мнения, тем более, что в правилах Марлинского было указывать источник, если он давал фольклорные переводы. Однако, являясь плодом авторского вымысла, эта песня своими поэтическими корнями уходит в дагестанский фольклор. Для этого воспользуемся параллелями, подобранными У.Б. Далгат [7, с. 156-157], которые убедительно показывают, что аналогичные обороты мы видим как в песне из повести Марлинского, так и в дагестанских фольклорных песнях: «Очи, не милая черной косой, ворон, закроет крылом // «Не сестры будут плакать над нами, а голодные шакалы, не милая заглянет в наши очи, а черный ворон, который будет их клевать».
«Девы, не плачьте, ваши сестрицы, Гурии, светлой толпой, К смелым склоняя солнце-зеницы, В рай увлекут за собой» // «Что нам прекраснейшие девушки Грузии, когда на небе встретят час объятия райских гурий!»
«Он в грозной битве в чуждом поле, Постигнут Азраилом, пал» // «Как буря настиг меня Азраил в пути».
Таким образом, песня «Слава нам, смерть врагу» представляет значительный интерес в следующих аспектах: во-первых, на основании наблюдений Л. Семенова мы отмечаем влияние русской литературы на фольклор Кавказа; во-вторых, повесть «Аммалат-бек» впервые знакомит русского читателя с неизвестным ему до сих пор фольклорным жанром «смертных песен», свойственным Кавказу; в-третьих, мы можем считать установленным, что о самом существовании на Кавказе подобного жанра, впервые стало само сравнение «смертной песни» Марлинского с фольклорными песнями. Дальнейшая судьба этой песни – яркое свидетельство того, что по идее и художественному воплощению она явля- ется близкой к фольклорным песням. Уже в одном этом выявляется немаловажная заслуга А. А. Бестужева-Марлинского как поэта.
Своеобразие песен кавказских горцев пытается объяснить и М. А. Васильев, который особо выделяет героические песни. Критик пишет: «У кафра, палимого зноем, у чукчи, дрожащего от мороза, у обоих, которым голодная смерть грозит ежедневно, первая поэзия, как первая религия есть заклинание... Напротив, у скандинава, у кавказского горца, у араба, людей столько же гордых, как бедных, столько же свободных, как бесстрашных, у которых все зависит от самого себя, которые ничего в мире не знают, выше собственных сил и отваги, поэзия есть песня самовосхваления... послушайте песни аварцев и черкеса: это вечная вариация местоимений «я» и «мы»; а «мы» значило у них - мой род, моя деревня, моя дружина» [8, с. 69].
Впоследствии этот мотив получит яркое отражение в повестях Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат», где представлены богатейшие этнографические материалы. В течение 1896-1904 годов Толстой работал над этой повестью. Действие повести происходит в 1851-1852-е гг. В центре повествования - дагестанец, аварец, а действие повести тесно переплетается с дагестанской действительностью первой половины XIX века.
Каковая же смысловая и выразительноизобразительная функция фольклорности и этнографизма этой повести?
Л.Н. Толстой использовал песенные жанры народного творчества, от знакомства с которыми он был в восторге и называл их «чудными песнями о мщении и удальстве». Наиболее ярко представлена в повести песня, которую исполняет герой повести Ханефи. Он поет «умный песня» «Высохнет земля на могиле моей...». Эта песня служит и характеристике исполнителя, и одновременно главного героя Хаджи-Мурата, который всегда слушал эту песню с закрытыми глазами. По-видимому, она вызывала в нем такой переворот чувств, что он невольно боялся их выплеснуть наружу. Интересна она и как своеобразный памятник фольклора, тем более, что автор преподносит её как подлинную.
Другую песню Ханефи про джигита Гамзата Л.Н. Толстой мастерски пересказывает. Она выполняет те же функции, что и предыдущая, кроме того, она еще и связана с развитием действия и исходом повести: она символизирует героическую и горькую гибель героя. В ней читатель видит, как священен обычай гостеприимства, живо описан обычай дарить кунаку понравившуюся вещь, не раз здесь речь идет и о сложившемся у горцев стереотипе кровной мести, изображается традиционное оплакивание покойного, этнографически достоверным является также обращение джигита к песне в смертный час.
Если в рассказе Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» произошло органическое слияние собственно толстовского и дагестанского фольклорного начал, то у А.А. Бестужева-Марлинского дагестанский фольклор – это роскошный орнамент в духе романтиче-
Л.Н. Толстым. В письме А.А. Фету от 26 октября 1875 года он восторженно пишет, что «...предания и поэзия горцев и сокровища поэтические необыкновенные » и высылает ему образцы поэтических (литературных) переводов .
Так, по мотивам ранее представленной фольклорной песни «Высохнет земля на могиле моей – и забудешь ты меня, моя родная мать! » А.А. Фета слагает авторские «Песни кавказских горцев» («Ты, горячая пуля, смерть носишь с собой…», «Станет насыпь могилы моей просыхать…»). Его произведения максимально подогнаны под оригинал, но передать этническое своеобразие, мировоззрение и вольный дух народа поэту все же не удалось.
Интерес к фольклору и этнографии северокавказских народов способствовал глубокому проникновению в их историю, мировоззрение, раскрытию внутреннего мира горцев и выражению особенностей нравов этих народов, мало знакомых рус- ских идеалов писателя. скому читателю того времени.
Чеченские «смертные песни» (узамы)
были по достоинству оценены
Список литературы Авторское переосмысление «смертных песен» в русской литературе XIX века
- Сборник сведений о Кавказских горцах. Вып. 1. Тифлис: Типография Гл. упр. наместн. Кавказ., 1868. - 426 с.
- Чеченская народная поэзия в записях XIX-XX вв. Илли, узамы. - М., 2005. - 360 с.
- Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. Т. 3: Статьи и рецензии. - М.: Акад. наук СССР, 1953-1959. 1953. - 682 с.
- Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. В 13-ти т. Т. 1: Статьи и рецензии. - М.: Акад. наук СССР, 1953-1959. 1953. - 574 с.
- Трунов Д.И. Дорога к свету. - Махачкала: Дагкнигоиздат, 1962. - 505 с.
- Семенов Л.П. Лермонтов и фольклор Кавказа. - Пятигорск: Ордж. краевое издание, 1941. - 100 с.
- Далгат У. Б. Фольклор и литература народов Дагестана. - М.: Изд.вост.лит. 1962. - 206 с.
- Васильев М.А. Декабрист А.А. Бестужев как писатель-этнограф. Научно-педагогический сборник. Выпуск 1. - Казань, 1926. - С. 65-70.