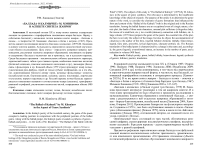«Баллада о калмычке» М. Хонинова в аспекте синтеза жанров
Автор: Ханинова Римма Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В калмыцкой поэзии ХХ в. жанр поэмы занимал лидирующие позиции по сравнению с периферийным положением жанра баллады. Наряду с собственно балладой у калмыцких поэтов выявлен синтез жанров - баллады и поэмы - в творчестве М. Хонинова: «Баллада о битве с ветром» (1967). Предметом данного исследования является «Баллада о калмычке» (1979) М. Хонинова в аспекте синтеза жанров. Актуальность определяется недостаточной изученностью объекта исследования. Цель статьи - определить жанровую природу произведения, рассмотрев элементы жанровых образований, повлиявших на форму и содержание «Баллады о калмычке» как в оригинале, так и в русском переводе. Среди балладных признаков - исключительное событие трагического характера, героический сюжет, гибель трех главных героев, необычные сюжетные коллизии (беспалый младенец, спасение маленького наследника и др.), двоемирие (бесы), связь с фольклором и др. Большой объем (1579 строк) проецирует жанр поэмы: существенная роль фабулы, герой не только субъект изображения, но и его объект, акцентирование близости автору героя, вставные фольклорные элементы (колыбельная песня, благопожелание, сказание, сказки, пословицы), лирические отступления, портрет персонажа и др. Русский перевод поэмы-баллады характеризуется изменением названия и соответственно жанра (сказание), трансформированной строфикой, увеличением количества частей, сокращением объема (900 строк).
Калмыцкая поэзия, поэма, колыбельная песня, благопожелание, сказание, синтез жанров, фольклор, поэтика, перевод, баллада
Короткий адрес: https://sciup.org/149139966
IDR: 149139966
Текст научной статьи «Баллада о калмычке» М. Хонинова в аспекте синтеза жанров
В жанровой системе калмыцкой поэзии XX в. [Очиров 1987; Очиров 1990; Пюрвеев 1988; Пюрвеев 1996; Ханинова 2008; Мукабенова 2009; Санджиев 2014 и др.] поэма доминировала, в том числе над лирическими и лироэпическими жанрами малой формы, в частности, над балладой, занимавшей периферийное положение в литературном процессе [Ханинова 2021b], В то же время синтез жанров - баллады и поэмы - отмечен в «Балладе о битве с ветром» («Салькнла бээр бэрлдснэ туск баллад», 1967) Михаила Хонинова (1919-1981) [Ханинова 2021а, 147-167].
«Баллада о калмычке» («Хальмг куукпэ туск баллад», 1979) М. Хонинова продолжает авторскую тенденцию в том же жанровом синтезе. И в этом плане произведение не было объектом и предметом исследования в калмыковедении. Единичные обращения к хониновской «Балладе...» связаны с рассмотрением в ней отдельных жанровых образований и мотивов - йоряла-благопожелания, колыбельной песни [Ханинова 2004; Ханинова, Очирова 2011]. Произведение базируется на фольклорном материале. Созданное в 1979 г, оно было опубликовано вначале в газете «Хальмг унн» («Калмыцкая правда») [Хоньна 1979], затем в книге поэта «БаЬ паси, ханжанав» [Хоньна 1981], составленной автором, но изданной после его ухода, в разделе «Поэмы».
Оригинальный текст, состоящий из трех частей, обозначенных римскими цифрами, структурирован восьмистрочными строфами, выстроенными «лесенкой». В русском переводе - десять неравномерных частей без «лесенки» с разной строфикой.
Предметом рефлексии лироэпического жанра баллады и ее фабульной основой является исключительное событие трагического, драматического или комического происхождения. «Отстраненное отношение субъекта поэтической рефлексии к событию обусловливает минимализм жанрового

стиля (сюжетного и речевого) и его объективированность в повествовательной или диалогической (реже монологической - от имени персонажа) форме. К общим стилевым признакам балладного сюжета, варьируемым национальной традицией или временной пропиской, относятся его, во-первых, фрагментарный (эпизодный) и динамический характер, сближающий Б. с новеллой, во-вторых, невероятность происходящего, типологически сходная с анекдотом, и, в-третьих, его фантастичность, родственная волшебной сказке» [Иванюк 2014, 30-31].
Авторское обозначение - баллада - уже с названия произведения указывает на его жанровые признаки. Во-первых, это героический сюжет (война), во-вторых, гибель главных героев (Улан Бюргюд, Цаган Байн, Хар хан), в-третьих, необычные сюжетные коллизии (погоня, ранение беременной женщины и младенца в ее чреве - утрата им безымянного пальца из-за вражеской стрелы; рождение и чудесное спасение этого новорожденного ребенка в дупле дерева; обычай выбора наследника государства с помощью ханского сокола; поединок Гесера-богдо-хана с младенцем-шул-мусом - двоемирие: здешний и иной мир; демонологические персонажи: бесовка-шулма и ее сын), в-четвертых, диалоги персонажей, демонстрирующие движение сюжета от завязки к развязке, в-пятых, неопределенное историческое время.
Большой объем произведения, не характерный для баллады, проецирует жанр поэмы: существенная роль фабулы, герой не только субъект изображения, но и его объект, акцетирование близости автору героя [Поэтика 2008, 181], вставные фольклорные элементы (колыбельная песня, йорял-благопожелание, сказки о мудрой деве и о девушках-лебедях, сказание о Гесер-богдо хане и др.), замедляющие развитие действия, но значимые в сюжетно-типологическом плане; лирические отступления (например, о войне, о времени), портрет персонажа.
Отмечено, что в калмыцкой литературе жанр поэмы в наибольшей степени выявил свои теснейшие связи с народнопоэтическими традициями, продемонстрировав две авторские тенденции: 1) литературная обработка сказок, легенд, преданий и т.п., 2) создание поэмы на фольклорной основе [Очиров 1987, 1990; Лиджиев 2006; Ханинова 2008; Мукабенова 2009].
Жанровая валентность баллады, способной скрещиваться с иными жанровыми формами [Иванюк 2014, 35], определила экспериментальную задачу М. Хонинова - синтез баллады и поэмы - после первого его опыта в 1967 г.
Сюжетный конфликт «Баллады...» основан на войне, начатой черноморским Хар ханом против калмыцкого хана Улан Бюргюда. Поводом для военного столкновения стал проигрыш гостя хозяину за шахматной партией. Победить в шахматной игре помогла мужу Улан Бюргюду его жена Цаган Байн. Известны фольклорные шахматные истории о том, как женщина помогает мужчине одержать победу (у калмыков сказка о мудрой жене, легенда о мудрой снохе) или освободить его из плена (древнерусская былина «Ставр Годинович»), В калмыцкой сказке мудрая жена иносказа- тельно подсказывает мужу: «Чем закладывать мое приданое (по обычаю родители невесты давали в приданое коня), лучше бы отдали телегу Хоть остались бы не пешим. Бог дал бы - телегу нажили, теперь вместо моего приданого попросите барашка на ужин гостям. Муж понял иносказание, сделал ход - и выиграл партию» [Древняя игра 1998, 2]. Название и форма калмыцких шахмат отличаются от международных: «Хан изображался в виде сидящего в величественной позе владыки народа. Ферзь изображался военачальником в боевых доспехах. Фигура слона была заменена на привычную в повседневной жизни фигуру верблюда, а ладью заменила телега, правда, вместо нее изображали быка. Пешки - многочисленные фигуры на шахматной доске - ассоциировались с самым массовым скотом в хозяйстве калмыков и потому их изображали в виде овец. Единственная фигура, оставшаяся без изменения по названию и форме, - конь» [Древняя игра 1998, 2], пешек могли изображать и в виде мальчиков [Омакаева 2010, 373]. В хониновской «Балладе...» жена, открыв дверь наружу, таким образом, подсказала мужу шахматные ходы: «Мана кун! / Морэн бэртн. / Му шар темэБэн кондэтн. / Куунэ альвн ковудиг коотн, / кондлц зогсжах терг автн!..» [Хоньна 1981, 102]. («Наш человек! Возьмите коня. Погоните плохого желтого верблюда. Разгоните чужих озорных мальчишек. Заберите телегу, стоящую у вас на пути». Здесь и далее наш смысловой перевод -Р. X.). В нашем художественном переводе: «Дверь распахнула наружу она / и закричала: “Что делать? Пора! Наш человек, придержите коня! Ждет ваших рук только желтый верблюд, вмиг разгоните мальчишек вокруг. / Надо телегу вам вскоре убрать, чтобы в дороге могла не мешать”» [Хонинов 2002, 54]. Отметим, что у калмыков не принято было жене обращаться к мужу по имени, и Улан Бюргюд, поняв намек Цаган Байн, исправил ситуацию и выиграл партию. «Для автора важно показать, как игровая ситуация влияет на судьбы властителей и их народов, как проигрыш в шахматном (умственном) состязании выявляет гипертрофированное самолюбие человека, не желавшего ни в чем уступать могущественному соседу. Авторская интенция направлена на раскрытие психологии завоевателя, готового использовать любую ситуацию в нужном ему направлении. Недаром хан Улан Бюргюд в своем ответе дает понять, что ему внятна враждебная настроенность гостя» [Ханинова, Очирова 2011, 144]. Подчеркнем семантику имен заглавных героев, передающих их характеристику: Хар хан (букв. Черный хан), Улан Бюргюд (Улан Бургуд, букв. Красный Беркут), Цаган Байн (ЦаБан Байн, букв. Белое Богатство). Семантика черного цвета однозначна в плане беды, несчастья, горя, семантика красного цвета, связанная с жизнью, отсылает и к эпическому богатырю Алому Льву Хонгору семантика белого цвета означает сакральное, благородное, чистое.
Объявленная Хар ханом война против Улан Бюргюда включила механизм баталий двух войск, в которой приняла участие и беременная жена Цаган Байн. Поединок между ханами завершился гибелью Улан Бюргюда. Умирающему мужу жена дала обещание отомстить захватчику и разгромить его армию, успела ранить стрелой Хар хана. Но погоня Зоркого Мер-
гена за Цаган Байн по приказанию Хар хана привела к драматическому развитию событий: вражеская стрела ранила женщину, она сумела, сойдя с коня, затеряться в камышах, родить сына. Этот необычный мотив беспалого младенца отсылает к известному калмыцко-ойратскому литературному памятнику о войне монголов с ойратами - «История Убаши хунтайджи и его войны с ойратами», в устной версии и в переводе («Убуши хул тяд-жи»), к образу монгольской ханши-воительницы, родившей после боевого ранения беспалого ребенка [Лунный свет 2003, 37-78]. Эта история в стихотворном русском переводе К. Новоспасского включена в сборник «Народное творчество Калмыкии», изданный в 1940 г. в Сталинграде. Книга эта из семейной библиотеки поэта хранит его пометы на страницах. При общей схожести условий ранения младенца в материнском чреве различно дальнейшее поведение женщин. В хониновской «Балладе...» сразу обозначен мотив беспалости: «Саадгин суми / дуулж; нисэд, / соэхид киисн дораБур орв. / Нилх Барл / болж; йовсна / нер уга / хурБинь тусв» [Хоньна 1981, 34]. («Стрела, со свистом прилетев, вошла красавице в живот ниже пуповины. Попала в безымянный палец еще не родившегося ребенка»), В «Убуши хун тяджи»: «В цель попала ойрата тройная стрела. / Поразила в живот ханшу злая стрела» [Народное творчество Калмыкии, далее - НТК 1940, 145]. Цаган Байн ранила простая, а не тройная стрела: замысел Зоркого Мергена - убить без страданий. Стрелок ослушался своего властелина, приказавшего захватить ханшу в плен. Поэтому женщине удалось вытащить стрелу из раны, родить в одинокой степи сына и успеть спасти его. Ср. в ойратской версии монгольская правительница требует помощи от врагов: «От летящей стрелы рану я получила, / Уступаю ойратам - воевать я не в силах. / Уступаю ойратам в жестоком бою. / Присылайте эмче лечить рану мою. / (У ойратов издревле обычай таков: / Победители лечат раны врагов). / Рану мудрые эмче вмиг излечили» [НТК 1940, 145] (эмче - калм. лекарь).
В «Балладе...» мать объяснила новорожденному причину его увечья: «Нер уга / хурБта Барвч. / Намаг, экон, бичэ гемнич. / ХурБичн —дон / гесндм таслла, / хээр угаБан / чамд узуллэ» [Хоньна 1981, 136]. («Родился ты без безымянного пальца. Не вини в этом меня, твою мать. Палец оторвала война, показав свою жестокость»). Монгольская ханша подросшему сыну рассказала историю его рождения: «Твой отец в ойратском бою погиб - / Одолели враги в далеком краю. / Кровь мщения тогда закипела во мне, / Женщин знатных собрав в нашей стране, / Повела их отважных во мстительный бой. / (Я была тяжела тогда, мальчик, тобой). / В роковую минуту, в последний срок / Поразил меня меткий ойратский стрелок, / Он тройную стрелу пустил в меня, / Он тройною стрелою пронзил меня. / Остался без пальца ты, мальчик мой» [НТК 1940, 146].
Беспалость в обоих случаях дифференцирована. В ойратском варианте: «Только не было пальца на правой руке, / Большого пальца на правой руке. [НТК 1940, 146]. Монголо-ойратский обряд инициации уделял большое внимание большому пальцу руки юноши-воина как главному в стрельбе из лука [Кичиков 1976, 25], а правосторонность всегда определялась как основополагающая в действиях человека. Если проецировать это знание на ойратский сюжет, то, несмотря на одержанную вначале победу, монгольский наследник потом потерпел поражение.
В «Сказании о калмычке» Цаган Баии также поведала сыну о его родословной. И если она пожелала ему быть верным своей земле, своему народу [Хоньна 1981, 138], то монгольская правительница злобно грозила: «Подрастет мой сын, отомстит вам за хана, / Лишь тогда заживет навсегда моя рана» [НТК 1940, 145]. Народное понимание справедливого возмездия, а не родовой мести, когда спустя много лет ойраты, с помощью военной хитрости одолев противника, вернулись домой, заявлено в литературном памятнике: «Так закончен последний кровавый поход, / Ханом начатый старым, без славы поход, / Ханшей мстительной, сыном беспалым поход! / И спокойно зажил ойратский народ» [НТК 1940, 148].
Цаган Байн, сближая прошлое с настоящим, знакомит сына со сказанием о Гесер-богдо-хане [Селеева 2019; Хабунова, Цеценбат 2021; Хабунова 2021]. «Сюжет, имея генетические схождения с тибетскими и монгольскими эпическими версиями, на почве калмыцкой фольклорной традиции претерпел трансформации и модификации на содержательном и сюжетно-мотивном уровнях, с признаками сказочного переосмысления» [Селеева 2019, 230]. Включение этой истории в «Балладу...» обусловлено как военным мотивом, так и архетипическим поединком отца с сыном, в данном случае рожденном от шулмы-бесовки. В эпической традиции «Джангара» богатыри сражались с бесовскими малышами на равных, в хониновском произведении в поединок вступает новорожденный, выпавший из чрева разрубленной Гесером пополам бесовки. Ср. в синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар» «богатырь Хонгор рассекает тело ханши Шигтин Улан, из чрева которой выпадает мальчик с тянувшейся за ним пуповиной» [Хабунова, Дампилова, Алимаа 2020, 784], сын мангаса вступает в бой с Хон-гором и погибает [Джангар 2005, 269-270]. В малодербетовской версии калмыцкого эпоса трехмесячный мальчик-шулма, сидя в железной люльке, грозит Джангару: «Нурвн сарта / Томр о л гэта ковун: / - Оцклдур эк мини алад, / Эндр долан ах мини алад, / Мини герур юн нуурэр / ордгв чи?» («Вчера мою мать жизни лишив, / Сегодня семерых моих братьев убив, / В мой дом как посмел / Войти ты?») [Калмыцкий героический эпос... 2020, 350-351]. В «Балладе...» новорожденный, обмотав трижды на мизинец пуповину, бился на равных: «Киисэн эркэдэн / Бурв орасн / ковун, бийэн / оглго бээв» [Хоньна 1981, 137]. Долгий бой в эпосе сопровождался угрозой маленького шулмуса, у Хонинова такой бой 7 дней продолжался в молчании. Победу в противостоянии Гесер одержал благодаря хитрости, тем самым актуализирован мотив детскости врага. По старинному обычаю хан-победитель на десятый день предложил побежденному высказать последнее желание; ответ ребенка подчеркнул его мистическую связь с ма-терью-шулмой, лазутчицей в стане Гесера: сын заявил, что если бы успел трижды глотнуть материнского молока (букв. молозива), то искрошил бы
его печень: «Экиннь уурган / Ьурв оочлсн / болхнь эмжл / цаЬан элкндчн / эрос эрх билэв» [Хоньна 1981, 138], букв, оставил бы узоры на его белой печени. Ср. в синьцзянской версии эпоса «Джангар» побежденный богатырь в последнем своем слове говорит о том, что если бы три месяца пососал грудь своей матери, то сделал бы из противника зубочистку [Хабу-нова 2006, 158]. А в монгольской версии «Джангара» последнее желание богатыря - мгновенная смерть, при этом он просит оставить целым его тело для возможного воскрешения или перерождения, например: «Раз так случилось, / Темно-красную мою печень / Не искрошив, убей!» [Хабунова 2006, 158]. Здесь определение печени ближе к натуральному цвету; у калмыцкого поэта речь идет о печени белого цвета (цаЬан элкн), эта метафора, вероятно, передает ханский статус Гесера (ср. цаЬан ясн - букв, белая кость, т.е. человек знатного происхождения).
В малодербетовской версии эпоса «Джангар» богатыри клянутся своему хану, в том числе и собственной печенью: «Эмжл черта элкэн / Эзндэн йуулэд огий!» [Калмыцкий героический эпос 2020, 172] («Отдадим искрошенную печень по имени Эмжил нашему властителю»), «По представлениям калмыков, печень отражает эмоциональное состояние человека. <...> У калмыков бытовало обозначение близкого родства - родство по печени, выраженное в словосочетании элгн-садн. Отдавать раскрошенную печень в данном случае - это выражение особой преданности владыке-эзе-ну Джангару» [Борджанова 2007, 293]. Фразеологизм «Элкан йуулэд огх» означает «отдать жизнь до конца» [Фразеологический словарь 2019, 273].
Заметим, что архетипического мотива поединка отца с сыном нет в известных нам калмыцких версиях сказания о Гесере.
Ср. в художественном переводе «Баллады...» эта история оформлена как «Богатырская колыбельная». Напевая эту колыбельную, мать, вероятно, размышляла о том, что сыну не суждено увидеть погибшего отца, а ее мужу не дано было познать долгожданную радость отцовства, да и сама она не насладится взрослением наследника. Так текст колыбельной экстраполируется в текст произведения и, будучи вставным элементом, несет важную сюжетообразующую функцию. Таким образом, переводчик контаминирует здесь жанры колыбельной песни, богатырской сказки и героического сказания [Хонинов 2002, 69-72].
Цаган Баии потом убаюкивает своего младенца, но эта песня прямо не обозначена автором как колыбельная. Мать поет о том, как черноморский хан пришел с войной в калмыцкую степь, но его недоброжелательный ум обернулся против него самого. Улан Бюргюд остался в народной памяти, белый курган стал для него караулом. Одна стрела сократила его годы, но его душу принял сын. Калмыцкая степь вечно будет цвести, кровь, пролитая чашей, все же не была напрасной. То, что это именно колыбельная песня, подтверждается далее: «Экин дун / саатуллЬн болад, / ээж-тег / дуужцпь болад, / Нер уга / хурЬтл унтна, / нарн алтн / толян суцЬна» [Хоньна 1981, 140] («Материнская песня была колыбельной, мать-степь была люлькой, уснул тот, у кого не стало безымянного пальца, / солнце золотые лучи протянуло»). Колыбельная песня, состоящая из трех куплетов, не имела припева. В тексте она структурно не выделена.
Умирая, Цаган Баии спрятала ребенка в дупле ивы. Балладный мотив чуда проявляется в том, что после такого ранения младенец не умер, выжил в полевых условиях, бью найден людьми. Калмыцкие легенды о происхождении рода Цорос от мальчика, найденного под деревом [Семь звезд 2004, 177-181], в хониновском произведении определены мотивом нахождения ребенка в дупле дерева, где уселся сокол, что также актуализирует включение фольклорного материала в балладный жанр. Этот мотив обнаружения наследника ханской птицей акцентировал сиротство ребенка: «Удн модн / окто, / Уулын шовун ЭЦКТ9» [Хоньна 1981, 138]. («Ива - ему мать, сокол - ему отец»).
По обычаю предков старший из ханских приближенных, нашедших младенца, произнес йорял новорожденному: «Удн модн / мет эн / уудан ут / наста болтха. / ЖирЬлд дурта / хальмг нутган / Ж^ацБр нойншц / Бардж; йовтха. // Дээни эвдрлтиг / эвин медрлэр / дацгин дандл / уга хаБлтха. / Хальмг эмтн / ни-негэр / хоон-хоонэн / жирОх болтха!» [Хоньна 1981, 147] («Подобно иве, пусть живет долгие годы. Пусть станет для калмыцкой страны правителем, равным хану Джангару. Пусть он обеспечит мир и благоденствие, не зная разрушительной войны. Пусть калмыцкий народ дружно живет во веки веков!»). В этом обряде пожелания новорожденному направлены на его будущее, а также на будущее его народа, поскольку он - ханский наследник. Как положено, присутствующие закрепляют услышанное благопожелание традиционной формулой для его исполнения: «Йорял буттхэ! - гиБэд, хальмгуд / йирн йисн / хогтан нээрлв...» [Хоньна 1981, 147] («Пусть сбудется благопожелание!» - сказав, калмыки праздновали девяносто девять дней...»).
Стратегия переводчика, несколько отступившего от оригинального текста, построена на близости к фольклорному йорялу «с его константными формулами (крепкое дыхание; пыльные ножки; прославление своего рода; предков; ноги, достающие стремян, и т.п.)» [Ханинова, Очирова 2011, 371]. Ср. «Кинь акя?, / Колнь шоратя?, / Эк-эцктэн олзэтэ уРн боля?, / Эрул-менд остхэ! / Ут наста, бат кишгтэ боля?, / Олн эгчнр-дуунр / Ардан дахултха!» («Шин Барен бичкн куукдт тэвдг йорэл») [Устное народное творчество 2007, 278]. В переводе В. Еременко: «Да крепнет дыхание новорожденного, / Пусть будут в пыли ножки его. / Пусть родителям на радость живет. / Пусть сильным и здоровым растет. / Пусть будет неутомим. / Пусть не знает бед. / Пусть братья и сестры за ним / Родятся вслед!» («Йорял новорожденному») [Калмыцкое устное народное творчество 2007, 278].
Другим примером включения фольклорного материала стала калмыцкая сказка о трех лебедях - дочерях Солнца. Ее вспомнил Зоркий Мерген в погоне за Цаган Байн: ханша оглянулась, свет, струящийся от ее лица, как будто ослепил на время преследователя, он даже зажмурился. Эту сказку Зоркому Мергену рассказала его тетя, а он в свою очередь - своему хану.
О том, как молодой рыбак увидел на озере трех лебедей, обернувшихся девушками, как спрятал птичье одеяние одной из них, как та вынужденно была остаться с земным юношей, стала его женой, как люди поняла, что она - дочь Солнца, потому что ночами из дома исходил свет. И теперь Зоркий Мерген подумал, не гонятся ли они за родственницей той сказочной девушки. Такое детальное воспроизведение фабулы сказки характерно для поэмы, повествование которой может прерываться подобными вставными элементами.
Ср. в погоне за Улан Бюргюдом Зоркий Мерген, зная о том, как калмыцкий богатырь Мазан победил татарского богатыря Иштыка, попав тому в шею, хотел бы сам повторить такой маневр, но калмыцкий хан не расстегнул свой воротник, не оглядывался: «Мергн генн / мектэ. Хальмг / Мазн мацйдын / Иштг баатриг / Моорсэрнь хайад / уцйасиг медиа, / Маз-ниг дурахар / горнэя? йовна. // Зуг Бургд / мацйдын Иштгшц / Захан тээлж / хэру хэлэхш...» [Хоньна 1981, 113-114]. В этом случае автор ограничился лишь намеком на легендарный мотив [Семь звезд 2004, 279-287], в то время как сказочный сюжет о лебедях все же ввел в сцену преследования. Переводчик же обошел вниманием эти два примера, посчитав их замедляющими эпизод погони. Ср. со сказкой Хасыра Сян-Белгина «Мазн-баатр» («Мазан-богатырь», 1959) на основе исторических преданий, легенд и песен о знаменитом богатыре [Мукабенова 2009, 13].
Лирические отступления, характерные для жанра поэмы, касаются фабульной канвы. Это, во-первых, лаконичные авторские размышления о войне, продиктованные чувством сострадания к Цаган Баии, потерявшей мужа: «Назр! Кемр / чини гуунд / Нолта зуркн / бээсн болхнь, / Теегин куукнэ / йашун йундлд / Тесж бээж / чадх билчи?» [Хоньна 1981, 124]. («Земля! Найдется ли такое сердце, которое смогло бы перенести горькую тоску степнячки?»). Во-вторых, это авторские размышления о Времени и Человеке: «...Цаг Кун хойр / омэрлнэ, / цогнь улан / хоюрн йовна. / Усн булгас экля? урсна, / ухан эмтнэс / торя? делгрнэ» [Хоньна 1981, 148]. («...Время и Человек идут вперед, пылкие оба идут. Вода начинаются с родников, ум людской, родившись, расширяется»). Во второй сентенции поэт, обратившись к народной пословице, перефразировал ее. Ср. «Нолын эки булг, куунэ эки найцнр», т. е. «начало реки - родник, начало человека -родственники (по материнской линии)» [Калмыцко-русский словарь 1977, 117].
В хониновском произведении часто встречаются пословицы и поговорки, способствующие пониманию событий и персонажей, что тоже характерно для калмыцкой поэмы. Так, пословица о свадьбе введена при сообщении о женитьбе Улан Бюргюда на Цаган Байн: «Хумха толйа колврм хурм / Хальмг теегт хан кенэ» [Хоньна 1981, 99]. («Хан в калмыцкой степи устроил такую свадьбу, на которую катятся даже черепа»). Ср. «хурм гихлэ, хумха толйа колвурдг» [Калмыцко-русский словарь 1977, 618]. («При слове “свадьба” туда катятся и черепа»), Цаган Байн, предостерегая Улан Бюргюда от опасного гостя Хар хана, говорит мужу: «Куунэ эрэнь дотрнь гидг, / Куунэ хаанас сагар бээтн» [Хоньна 1981, 99-100]. («Говорят, что пестрота человека внутри, будьте осторожным с чужим ханом»). Она приводит начало калмыцкой пословицы, которая гласит: «Куунэ эрэнь дотрнь, мойан эрэнь Базань», т.е. «пестрота человека внутри, пестрота змеи снаружи», иначе говоря, «душа человека - потемки» [Калмыцко-русский словарь 1977, 701]. Когда разгневанный черноморский хан отправился в свою страну, автор сравнил его с плохим быком, посыпающим пылью свою голову: «Му бухшц толБа деерэн / Тоос цацад хан хэрв» [Хоньна М. 1981, 105]. («Подобно плохому быку, посыпающему пыль на свою голову, уехал хан»). Ср. калмыцкая поговорка: «Му бух толБа деерэн шора цацдг погов. Плохой бык-производитель посыпает пылью свою голову» [Калмыцко-русский словарь 1977, 124]. Размышляя о превратностях судьбы, Цаган Байн, ссылаясь на калмыцкую поговорку, говорит мужу: «Ода авдрт бээх шаБан / Алц, тааБинь яБж; медий?» [Хоньна 1981, 107]. («Как узнать, какой стороной лежат в сундуке альчики?»). Каждая сторона альчика (калм. maha) называлась по-разному, название имело значение при игре в альчики (в данном случае упоминаются две стороны: алц и та). «Хуучан хатхсн урн гидг, / Хооткэсн сансн цецн гидг» [Хоньна 1981, 107] («Говорят, что чинящий старое - мастер, говорят, думающий о будущем - мудрец»), -напоминает о калмыцкой пословице Цаган Байн, призывая мужа жить во имя ребенка, который должен родиться, изгнать врага со свой земли. «Курзэр дарснь ирдго гилднэ, / Колэр одень ирдм гилднэ» [Хоньна 1981, 108] («Говорят, зарытый лопатой не возвращается, говорят, ушедший человек возвращается»), - так калмыцкой пословицей характеризует автор сборы войска хана Улана Бюргюда. Другую калмыцкую пословицу автор использует при описании сражений: «Укдгог эк эс БарБдгт, / Элдгог урн эс кедгт» [Хоньна 1981, 117] («Бессмертного не рожает мать, неизносимого не создает мастер»). Подчеркивая народный афоризм, автор актуализирует его смысл, сравнив йорял с маслом, в эпизоде благословения найденного наследника ханства. «Иорэлин экн - тосн, харалын экн - цусн» [Калмыцко-русский словарь 1977: 281], т.е. «Источник благопожелания - масло, источник проклятия - кровь». Нетрудно заметить, что введение пословиц и поговорок в текст произведения отведено героине (тип мудрой девы) и автору.
Таким образом, «Баллада о калмычке» (1979) Михаила Хонинова является поэмой-балладой, тяготеющей к лироэпической поэме, «в которой при сохранении ориентации на балладу ближе становится связь с эпической поэмой» [Теория литературы 2004, 323]. Жанровый синтез поэмы-баллады, в целом не характерный для калмыцкой поэзии XX в., в творчестве М. Хонинова носил экспериментальный характер, продолженный после первого опыта («Битва с ветром», 1967).
В художественном переводе «Сказание о калмычке» при определенном сохранении балладных и поэмных признаков актуализирует жанр стихотворного сказания, в котором события национального прошлого основаны на сохраненных устных рассказах-сказаниях.
Список литературы «Баллада о калмычке» М. Хонинова в аспекте синтеза жанров
- Борджанова Т.Г. Обрядовая поэзия калмыков (система жанров, поэтика). Элиста: Калм. кн. изд-во, 2007. 592 с.
- Джангар. Героический эпос синьцзянских ойрат-монголов. На калмыцком языке: в 3 т. Т. 1. Элиста: Джангар, 2005. 856 с.
- Древняя игра // Элистинские новости. 1998. 19-25 сентября. С. 2.
- Иванюк Б.П. Баллада: словарное описание жанра // ФИЛОLOGOS. 2014. № 22(3). С. 30-36.
- Калмыцкий героический эпос «Джангар»: Малодербетовский цикл. М.: Первая Образцовая типография, Чеховский Печатный Двор, 2020. 544 с.
- Калмыцкое устное народное творчество / Сост. Н.Ц. Биткеев. Элиста: Джангар, 2007. 440 с.
- Калмыцко-русский словарь / сост. Б.Д. Муниев. М.: Русский язык, 1977. 768 с.
- Кичиков А.Ш. Исследование героического эпоса «Джангар» (вопросы исторической поэтики). Элиста: Калм. кн. изд-во, 1976. 156 с.
- Лиджиев М. А. Фольклорные традиции в калмыцкой поэзии (1920-1980-е гг.): автореф. дис. ... к. филол. н. Майкоп, 2006. 22 с.
- Лунный свет: Калмыцкие историко-литературные памятники. Пер. с калм. / Сост., ред., вступ. ст., предисл., коммент. А.В. Бадмаева. Элиста: Калм. кн. изд-во, 2003. 477 с.
- Мукабенова М.А. Мифологические и фольклорные основы калмыцкой литературной поэмы-сказки: автореф. . дис. к. филол. н. Майкоп, 2009. 22 с.
- Народное творчество Калмыкии / сост. И. Кравченко. Сталинград - Элиста: Областное книгоизд-во, 1940. 316 с.
- Омакаева Э.У Народные игры // Калмыки. М.: Наука, 2010. С. 364-374.
- Очиров В.У Идейно-художественное своеобразие современной калмыцкой поэмы (60-80 гг.): автореф. дис. ... к. филол. н. М., 1990. 27 с.
- Очиров В. Проблема фольклоризма поэмы // Литература Калмыкии на современном этапе: проблемы идейно-художественного развития. Элиста: КНИИ-ФЭ, 1987. С. 64-81.
- Поэтика: словарь актуальных терминов. М.: Издательство Кулагиной, 2008. 358 с.
- Пюрвеев В.Д. Жанровое движение: эволюция жанровых форм и внутренние закономерности развития калмыцкой поэзии XX века. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1996. 322 с.
- Пюрвеев В.Д. Октябрь и калмыцкая литература: эволюция идейного содержания и жанровых форм литературы 20-30-х гг. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1988. 190 с.
- Санджиев Н.Д. Калмыцкая поэзия первой половины XX века: становление и развитие нравоописательных жанров // Региональная научно-практическая конференция «Традиции и новаторство калмыцкой национальной художественной культуры: литература, фольклор, искусство», посвящ. 25-летнему юбилею кафедры калмыцкой литературы и журналистики: материалы. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2014. С. 252-262.
- Селеева Ц.Б. Сказание «О Гэсэре Богдо хане» в фольклоре калмыков // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2019. № 3. С. 230-252.
- Семь звезд: калмыцкие легенды и предания / сост., вступ. ст. и коммент. Д.Э. Басаева. Элиста: Калм. кн. изд-во, 2004. 415 с.
- Теория литературы / Под ред. Н.Д. Тамарченко. Т. 2. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М.: Академия, 2004. 368 с.
- Фразеологический словарь калмыцкого языка / под ред. Г.Ц. Пюрбеева. Элиста: РИА Калмыкия, 2019. 286 с.
- Хабунова Е.Э. Героический эпос «Джангар»: поэтические константы богатырского жизненного цикла (сравнительное изучение национальных версий). Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2006. 256 с.
- Хабунова Е. Э. «Сказание о Гесере-богдо» в записи от Шарлда Дорджие-вича Дорджиева, 1893 г.р.: общая характеристика, текст, комментарий // Монголоведение. 2021. № 2. С. 382-398.
- Хабунова Е.Э., Дампилова Л.С., Алимаа А. Мотив «богатырский поединок (сражение)» и его вариативный ряд в эпосах монгольских народов // Oriental Studies. 2020. Т. 13. № 3. С. 779-789.
- Хабунова Е.Э., Цеценбат Ц. Сюжетные звенья калмыцкого «Сказания о Гесер-богдо» в записи от Ш.Д. Дорджиева (1893-1984): содержательный состав // Oriental Studies. 2021. Т. 14. № 5. С. 1111-1121.
- (a) Ханинова Р.М. Баллада в калмыцкой поэзии ХХ в. в аспекте синтеза жанров // Монголоведение. 2021. Т. 13. № 1. С. 147-167.
- (b) Ханинова Р.М. Поэтика лирических и лироэпических жанров малой формы в калмыцкой поэзии ХХ века. Элиста: КалмНЦ РАН, 2021. 504 с.
- Ханинова Р.М. Давид Кугультинов и Михаил Хонинов: диалог поэтов. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2008. 185 с.
- Ханинова Р.М. Об одном эпическом сюжетном мотиве в «Сказании о калмычке» Михаила Хонинова // «Джангар» в евразийском пространстве (к 200-летию первой публикации калмыцкого героического эпоса «Джангар»): материалы междунар. научно-практ. конф. Элиста: КалмГУ, 2004. С. 149-154.
- Ханинова Р.М., Очирова Э.Б. Йорял новорожденному в поэме Михаила Хонинова «Сказание о калмычке» // Современная филология: теория и практика: материалы VI международной научно-практической конференции. М.: Спецкнига, 2011. С. 368-372.
- Хонинов М. Баллада о калмычке // Хонинов М.В., Ханинова Р.М. Час речи: стихи и поэмы. Элиста: Джангар, 2002. С. 45-79.
- Хоньна М. Хальмг куукнэ туск баллад // Хоньна М. Баh насн, ханжанав: шYлгYД болн поэмс. Элст: Хальмг дегтр hарhач, 1981. Х. 97-149.
- Хоньна М. Хальмг куукнэ туск баллад // Хальмг Yнн. 1979. Апрелин 20. Х. 4; Апрелин 26. Х. 4; Апрелин 27. Х. 4.