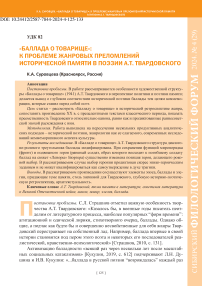«Баллада о товарище»: к проблеме жанровых преломлений исторической памяти в поэзии А.Т. Твардовского
Автор: Суровцева К.А.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Слово молодым исследователям
Статья в выпуске: 4 (29), 2024 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. В работе рассматриваются особенности художественной структуры «Баллады о товарище» (1941) А.Т. Твардовского в перспективе политики и поэтики памяти; делается вывод о глубоком соответствии исторической поэтики баллады тем целям коммеморации, которые ставил перед собой поэт. Цель статьи - рассмотреть «Балладу о товарище» в исторической ретроспективе жанра, сопоставить произведение XX в. с прецедентными текстами классического периода, показать преемственность Твардовского относительно канона, равно как и продиктованные раннесоветской эпохой расхождения с ним. Методология. Работа выполнена на пересечении нескольких продуктивных аналитических подходов - исторической поэтики, жанрологии как ее слагаемого, современных исследований коммеморативного аспекта культуры. Результаты исследования. В «Балладе о товарище» А.Т. Твардовского структура диалогово-ролевого треугольника баллады модифицирована. При сохранении функций миропорядка (фронт) и подвижного героя (раненый солдат, образ которого восходит к погибшему солдату баллад на сюжет «Леноры» Бюргера) существенно изменена позиция героя, делающего роковой выбор. В рассматриваемом случае выбор героини продиктован скорее эпико-героическим заданием и не может квалифицироваться как самоутверждение в духе трагики.
А.т. твардовский, тема памяти в литературе, советская литература о великой отечественной войне, канон, жанр, элегия, баллада
Короткий адрес: https://sciup.org/144163251
IDR: 144163251 | УДК: 82 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-4-125-133
Текст научной статьи «Баллада о товарище»: к проблеме жанровых преломлений исторической памяти в поэзии А.Т. Твардовского
П остановка проблемы. С.Л. Страшнов отметил важную особенность творчества А.Т. Твардовского: «Казалось бы, в военные годы писатель неотделим от литературного процесса, наиболее популярных “форм времени”: агитационной и одической лирики, стихотворного очерка, баллады. Однако общие, а подчас как будто бы и совершенно несвойственные для себя жанры Твардовский перестраивает на собственный лад. Например, баллада впервые в своей истории становится под пером этого поэта и некоторых его последователей реалистической, нравственно-психологической» [Страшнов, 2010, с. 131].
Активизацию балладности «всякий раз через несколько лет после масштабных социальных катаклизмов» [Кукулин, 2019, с. 612] подчеркивают Л.Н. Душина и И.В. Кукулин: «...баллада в русской поэзии “возрождалась” каждый раз
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)

в эпоху как бы пограничную: на грани XVIII–XIX столетий, сентиментализма и романтизма; на переломе от романтизма к реализму, сопутствуя утверждению в поэзии нового отношения к национальной истории; на рубеже XIX–XX веков; в первые послереволюционные годы; в годы Великой Отечественной войны» [Душина1, 1975, с. 4].
Причин такой активизации жанра в определенные эпохи может быть несколько. Во-первых, ода, элегия, баллада содержат мнемообразы, позволяющие воссоздать сложную картину памяти о важных событиях и потрясениях. Во-вторых, по точному замечанию В.И. Тюпы, система ценностей баллады опирается на поляризацию «своего» и «чужого» [Тюпа, 2013, с. 129], что также отвечает на идеологический запрос военного времени: конструирование образа врага, в том числе с помощью хтонических и онирических мотивов и образов, которым противостоит единое отечество.
Создателем русского канона балладного жанра по праву считается В.А. Жуковский. Современные исследователи выделяют три основные функции в инвариантной композиции баллады: «1. Сила универсального Миропорядка. 2. Связанный с этой силой подвижный герой, топографически и/или символически принадлежащий “иному миру” и – часто, но не всегда – забирающий кого-то из мира “здешнего”. 3. Герой, делающий роковой выбор. Динамика сюжета сообщается балладе персонажем, расположенным на третьей ролевой позиции: его выбор запускает в действие до поры сокрытые силы Провидения, включая и типового для баллады “жениха-мертвеца”. С учетом значительной роли драматургического компонента (“балладный диалог”) распределение этих позиций можно назвать “диалогово-ролевым треугольником” [Анисимов, Анисимова, 2023, с. 44].1
Твардовский в цикле «Фронтовая хроника» варьирует описанные выше функции в «Балладе об отречении» (1942), «У славной могилы» (1943), «Я убит подо Ржевом» (1945–1946), «Теркин на том свете» (1954–1963). Опираясь на выявленные признаки балладного канона, установим сходства и отличия жанра в «Балладе о товарище» (1941), проанализируем, как актуализируется в рассматриваемом тексте тема памяти.
Результаты исследования. По определению Ю.М. Лотмана, «подвижный персонаж – это лицо, имеющее право на пересечение границы» [Лотман, 1970, с. 288] потустороннего и посюстороннего мира. Баллада Твардовского начинается именно таким событием: Он отставал, он кровь терял , / Он пулю нес в груди / И всю дорогу повторял:/ – Ты брось меня. Иди... / Как горько по земле родной / Идти, в ночи таясь . / Как трудно дух бойца беречь, / Чуть что скрываясь в тень. / Чужую, вражью слышать речь / Близ русских деревень [Твардовский, 2008, с. 94–95].
1 Душина Л.Н. Поэтика русской баллады в период становления жанра: автореф. дис.... канд. филол. наук. Л., 1975.
Раненый солдат – это «подвижный персонаж», находящийся на границе жизни и смерти. Сослуживец не оставляет его на поле сражения, а переносит в пространство живых. Образ умирающего бойца перекликается с «женихом-мертвецом» балладного канона, появляющегося ночью. К теме памяти обращается второй военный, и в дальнейшем именно он восстанавливает картину происходящего: И каждый шорох, каждый хруст / Тревожит твой привал... / Да, я запомнил каждый куст , / Что нам приют давал. / Запомнил каждое крыльцо , / Куда пришлось ступать, / Запомнил женщин всех в лицо, / Как собственную мать [Твардовский, 2008, с. 95].
В указанном отрывке появляется характерный для балладного стиля трехчастный повтор, о котором писал А.Н. Веселовский в «Исторической поэтике» [Веселовский, 1989, с. 206].
Главное событие балладного канона – встреча героев потустороннего и посюстороннего миров. В балладе Твардовского это уже знакомый нам смертельно раненый солдат и женщина, принимающая солдата, как Ленора или Людмила Жуковского, встречающая гостя с того света. Между героями по законам баллады происходит драматический диалог с уже знакомым трехчастным повтором: – Остался б, – за руку брала / Товарища она, / – Пускай бы рана зажила, / А то в ней смерть видна. / Пойдешь да сляжешь, на беду, / В пути перед зимой. / Остался б лучше . – Нет, пойду, – / Сказал товарищ мой. / – А то побудь . У нас тут глушь, / В тени мой бабий двор. / Случись что немцы, – муж и муж, / И весь тут разговор. / И хлеба в нынешнем году / Мне не поесть самой, / И сала хватит. – Нет, пойду, – / Вздохнул товарищ мой. / – Ну, что ж, иди… – И стала вдруг / Искать ему белье, / И с сердцем как-то все из рук / Металось у нее. / Гремя, на стол сковороду / Подвинула с золой. / Поели мы. – А все ж пойду, / Привстал товарищ мой. / Она взглянула на него: / – Прощайте, – говорит, – / Да не подумайте чего… – / Заплакала навзрыд. / На подоконник локотком / Так горько опершись, / Она сидела босиком / На лавке. Хоть вернись [Твардовский, 2008, с. 96].
Диалогово-ролевой треугольник реконструируется последней функцией: силой универсального Миропорядка: по канонам это провидение/рок/судьба/норма/ закон, которые должны быть исполнены. В балладе Твардовского это «фронт», ведь во время войны судьба солдата – быть на поле сражения: Бывают всякие дела, – / Ну, что ж, в конце концов / Ведь нас не женщина ждала, / Ждал фронт своих бойцов [Твардовский, 2008, с. 97].
Функция героя, делающего роковой выбор, усложняется, расщепляясь между женщиной, которая ставит на первое место намерение сохранить жизнь раненому солдату, а не спасение Родины – «Остался б!»; и бойцом, который останавливается на служении стране: «Нет, пойду!» – оставляя хозяйку дома. Герой обращается к Миропорядку без всякой рефлексии о выборе: ему не избежать предназначенного судьбой. Женщина решается на драматичный для своей судьбы шаг, делает не предусмотренный своим положением Поступок. Однако природа ее выбора
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
не трагически-самоутверждающая, как в балладах романтизма, а героическая. Так баллада Твардовского наполняется эпическими мотивами и образами, ведь «герой жизнеописания может и быть, и не быть субъектом ролевого действия (актантом), как в сказании, или субъектом этического выбора, как в притче, или субъектом инициативного самообнаружения, как в анекдоте. Все эти характеристики для него возможны....В основе своей жанровой герой жизнеописания является носителем самобытного смысла развертывающейся индивидуальной жизни, то есть субъектом самореализации» [Тюпа, 2013, с. 81].
Твардовский внедряет в текст лирическое «я», также меняя привычную повествовательную структуру классической баллады: товарищ-рассказчик показывает всеобщий характер происходящего, он часть Миропорядка. Он же является двойником раненого бойца (как, например, Ахилл и Патрокл): «Прохождение героев фазы смерти и позднейшее отделение этой второй временной функции породило образ двойника, который получил мощный отклик в обряде, сказании и литературе. Сперва герой двоичен; затем его вторая часть, брат или друг, становится самостоятельной. Смертный герой остается в преисподней, а победитель смерти выходит снова на свет и живет» [Фрейденберг, 1997, с. 210]. Но раненый солдат не остается в посюстороннем мире: «роковой выбор» женщины спасает его.
Хотя Твардовский и выносит жанр баллады в заглавие, в лирическом тексте также присутствуют элементы элегии. Как отмечают В.И. Козлов и О.С. Мирошниченко, «каждый литературный жанр, как правило, неоднороден. Жанровые формы оды, элегии, баллады достаточно разнообразны, поэтому границы, за которыми один жанр переходит в другой, порой оказываются незаметными» [Козлов, Мирошниченко, 2011, с. 35–36].
Вторая часть «Баллады о товарище» начинается как классическая элегия на тему руин. Твардовский работает с «памятью жанра», используя характерные черты. Например, за основу автор берет традиционный сюжет: возвращение в родные места после долгой разлуки: И вот теперь по всем местам / Печального пути / В обратный путь досталось нам / С дивизией идти. / … / Но все ж знакомые места, / Как будто край родной. / – А где-то здесь деревня та? – / Сказал товарищ мой. / … / Где хата наша и крыльцо / С ведерком на скамье? / И мокрое от слез лицо / Что снилося и мне? [Твардовский, 2008, с. 98–99].
Но бойцов встречают лишь развалины. Твардовский использует ряд мотивов, присущих жанру элегии: ветхий дом, заброшенная дорога, запустение: Неполный ряд домов-калек, / Покинутых с зимы . / И там на ужин и ночлег / Расположились мы. / … / И печь с обрушенной трубой / Теперь на месте том . / Да сорванная, в стороне, / Часть крыши. Бедный хлам , / Да черная вода на дне / Оплывших круглых ям [Твардовский, 2008, с. 99].
Симптоматично переплетение образа печи с чувством памяти о доме и его забвении, с мотивом потери домашнего очага. Оно приобретает элегический модус «настоящего в ценностном свете прошлого» [Козлов, 2013, с. 20].
В славянской культуре печь воспринималась как сакральный посредник между «живым» миром и миром «мертвых»: «Печная труба – специфический выход из дома, предназначенный в основном для контактов с иным миром» [Топорков, 2009, с. 39]. Таким образом, печь является заместителем подвижных потусторонних героев.
Мнемоническая образность в последнем отрывке связана с «амбивалентным локусом воды, символизирующей память и забвение» [Анисимов, Анисимова, 2023, с. 37]. В греческой мифологии река Лета протекала в царстве мертвых, и души умерших, испив из нее воды, забывали свою земную жизнь. Отсюда произошло выражение «кануть в Лету», то есть забыться, бесследно исчезнуть [Мифологический…, 1990, с. 310].
Поэтому и «черная вода» в заброшенном доме «Баллады о товарище» поглотила героиню и память о ней. Встреча подвижного героя и героя, делающего выбор, закончилась по всем правилам смертью последнего.
Жанрообразующим для элегии является мотив воспоминания: И два бойца вокруг глядят, / Деревню узнают, / Где много дней тому назад / Нашли они приют. / Где печь для них, как для родных, / Топили в ночь тайком. / Где, уважая отдых их, / Ходили босиком. / Где ждали их потом с мольбой / И мукой день за днем… [Твардовский, 2008, с. 99].
По замечанию Е.А. Мельниковой, «в «исторической» элегии роль навсегда утраченного мира принадлежит пространственному мотиву «руины» (замка, монастыря, гробницы). В англосаксонских героических элегиях «герой, в силу каких-то внешних обстоятельств вырванный из привычной жизни, оплакивает ее » [Мельникова, 1986, с. 21]. Элегические мотивы личного переживания, утраты, тоски об умершем вторгаются в балладу Твардовского. Герою добавляется лирический трагизм, когда он видит, что женщина и ее дом уничтожены войной: Пусть в сердце боль тебе, как нож, / По рукоять войдет. / … / Он плакал горестно, солдат, / О девушке своей / Ни муж, ни брат, ни кум, ни сват / И не любовник ей [Твардовский, 2008, с. 100].
Знакомые предвестники балладной потусторонности и элегической таинственности обнаруживаются и в актуализации особого хронотопа сновидения («Идти, в ночи таясь», «Чуть что скрываясь в тень», «и все во сне дрожать»), и в имплицит-ности образа противника, который несет в себе опасность: читателю не сообщается, кто разрушил деревню, он только догадывается, что это сделали немцы.
Четко разделяется мир на «свой» и «чужой»: Вдоль развороченных дорог / И разоренных сел / Мы шли по звездам на восток, – / Товарища я вел. / … / Наверно, если б ранен был / И шел в степи чужой , / Я точно так бы говорил / И не кривил душой. / … / Быть может, кто-нибудь иной / Расскажет лучше нас, / Как горько по земле родной / Идти, в ночи таясь. / Как трудно дух бойца беречь, / Чуть что скрываясь в тень. / Чужую, вражью слушать речь / Близ русских деревень. / … / И, постояв еще вдвоем, / Два друга, два бойца, / Мы с ним пошли. И мы идем / На Запад. До конца [Твардовский, 2008, с. 94–95, 100].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
Эти фрагменты, кроме того, подчеркивают свойственную жанру баллады «зеркальность» (в каноне балладного жанра зеркало связано с гаданием на жениха). У Твардовского зеркало созвучно с локусом и организацией текста: сначала солдаты отступают и идут «на восток», а потом переходят в наступление и возвращаются по пройденному пути «на запад».
За пределами баллады Твардовского остается неизбежная встреча героев, находящихся по разные стороны Миропорядка: защитников родной земли и ее незаконных захватчиков, которые нарушили границы, законы допустимого.
Баллада заканчивается приметой военной периода - пропагандистским призывом: Вперед, за каждый дом родной, / За каждый добрый взгляд, / Что повстречался нам с тобой, / Когда мы шли назад. / И за кусок, и за глоток, / Что женщина дала, / И за любовь ее, браток, / Хоть без поры была. / Вперед – за час прощальный тот, / За память встречи той… [Твардовский, 2008, с. 100].
Выводы. В «Балладе о товарище» А.Т. Твардовского структура диалогово-ролевого треугольника баллады модифицирована. При сохранении функций миропорядка (фронт) и подвижного героя (раненый солдат, образ которого восходит к погибшему солдату баллад на сюжет «Леноры» Бюргера) существенно изменена позиция героя, делающего роковой выбор. В рассматриваемом случае выбор героини продиктован скорее эпико-героическим заданием и не может квалифицироваться как самоутверждение в духе трагики.
Поэт внедряет в текст лирическое «я», меняя привычную повествовательную структуру классической баллады: это уже не всеведущий повествователь, а товарищ-рассказчик, демонстрирующий коллективный, всеобщий характер происходящего.
В рассматриваемом произведении сосуществуют элементы эпоса, баллады и элегии, придающие теме памяти, столь значимой для Твардовского, глубокую историко-поэтическую ретроспективу, архитекстуальность.
Список литературы «Баллада о товарище»: к проблеме жанровых преломлений исторической памяти в поэзии А.Т. Твардовского
- Анисимов К.В., Анисимова Е.Е. Очерки теории и истории русской баллады. Жанрологическое исследование: монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2023.
- Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989.
- Козлов В.И. Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории. М.: Языки славянской культуры, 2013.
- Козлов В.И. Мирошниченко О.С. Воспоминание как привидение: о пограничной зоне элегии и баллады // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2011. № 1. С. 35-43.
- Кукулин И. От Сваровского к Жуковскому и обратно: О том, как метод исследования конструирует литературный канон // Кукулин И. Прорыв к невозможной связи: статьи о русской поэзии. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2019. С. 599-614.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
- Мельникова Е.А. Тема пира и дихотомия героического мира англосаксонского эпоса // Литература в контексте культуры. М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 16-29.
- Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Советская энциклопедия, 1990.
- Страшнов С.Л. Жанровый состав творчества Твардовского // А.Т. Твардовский: исследования и материалы (международная научная конференция «Творчество А.Т. Твардовского в контексте русской и мировой культуры» (5-7 октября 2010)) / отв. ред. Г.Н. Ермоленко. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2010. Вып. 1. С. 129-133.
- Твардовский А.Т. Стихотворения. Поэмы. Проза. М.: СЛОВО^ОУО, 2008. С. 94-100.
- Топорков А.Л. Печь: словарная статья // Славянские древности: этнолингвистический словарь / ред. Н.И. Толстой. М.: Международные отношения, 2009. Т. 4. С. 39-44.
- Тюпа В.И. Дискурс / Жанр. М.: 1пй^а, 2013.
- Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997.