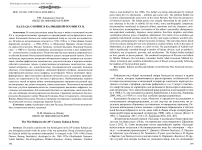Баллада о войне в калмыцкой поэзии ХХ в
Автор: Ханинова Римма Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен жанр баллады о войне в калмыцкой поэзии ХХ в. на репрезентативных примерах из произведений поэтов фронтового поколения. Калмыцкая баллада как заимствованный жанр не изучена исследователями. История ее возникновения относится к 1930-1940-м гг. (Гаря Даваев, Басанг Дорджиев), развитие - к 1960-1970-м гг. (Морхаджи Нармаев, Лиджи Инджиев, Давид Кугультинов, Михаил Хонинов, Алексей Балакаев, Владимир Нуров), спад - к 1980-м гг. Баллада осваивалась калмыцкими поэтами в двух направлениях - политическом и социальном. Политическая баллада отразила современность и события Великой Отечественной войны в аспекте исторической памяти. Поэтика баллады определялась авторским обозначением жанра в заглавии или подзаголовке, автобиографическим компонентом, документализмом в передаче военных событий и реальных героев, художественным историзмом, сюжетностью, лиризацией авторского «я», диалогичностью, безэквивалентной лексикой, большим объемом, стихотворным размером, свободной формой строфики, национальной версификацией (разные виды анафоры, аллитерация). Мотив двоемирия трансформировался: враги выполняли функции нечистой силы, одномирие проецировалось на современность без мистики и фантастики. Необыкновенные подвиги советских людей во время войны позиционировались авторами как ратный труд во имя родины, как сюжет-поединок, сюжет-испытание. Психологизм калмыцкой баллады углублен приемами антитезы, олицетворения, введением экфрасиса, пословицы, воспоминания. Для калмыцкой баллады не характерны такие виды баллад, как любовная, баллада-пародия, рок-баллада. Сравнение калмыцких баллад с русскими балладами о войне Николая Тихонова, Ильи Сельвинского, Александра Яшина, Марка Гроссмана, Михаила Анчарова подтверждает традицию советской политической поэзии в литературе народов России.
Калмыцкая и русская баллада, великая отечественная война, историческая память, традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149127127
IDR: 149127127 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00014
Текст научной статьи Баллада о войне в калмыцкой поэзии ХХ в
Рефлексия над общей эволюцией жанра баллады не входит в задачи этой статьи, которые ограничиваются рассмотрением особенностей его поэтики исключительно в калмыцкой литературе советского периода (мо-тивного состава, строфики, системы рифмовки и т.д.). Следует отметить, что жанр баллады не характерен для калмыцкого фольклора и национальной литературы. Этот заимствованный жанр появился в калмыцкой поэзии не в 1960-е гг, как указывалось ранее [Джамбинова, Салдусова, Ханинова 2009, 504], а в 1930-е гг. и не был особенно распространенным.
Калмыцкая баллада не стала объектом и предметом исследования в отечественном литературоведении, до сих пор нет ни антологии, ни отдельных авторских сборников, составленных по жанровому принципу. Отдельные наблюдения ученых связаны с единичным обращением к той или иной балладе избранного поэта, даны либо в общем обзоре литературного периода [История калмыцкой литературы 1980], либо в статьях [Кичгэ Т. 1963, 3; Ханинова 2015, 118-125; Ханинова 2016, 403^07].
Литературоведческий термин «баллада» в калмыцком языке представлен как «туужип шулг» (букв, «историческое стихотворение») [Цеденова (сост.) 2012, 5]. Сами калмыцкие поэты европейский термин «баллада» использовали по-русски в безэквивалентном виде без окончания - «баллад» - в названии произведения: Г. Даваев («Хеетин баллад»), Л. Инджи-ев («Булгин туск баллад»), М. Хонинов («Уулнэ туск баллад»), В. Нуров («Баргин туск баллад») или в подзаголовке: Б. Нармаев («Баллад»), В других случаях или авторы вообще не указывали жанр, или его номинацию использовали русские переводчики при отсутствии авторского обозначения («Баллада диких тюльпанов» Д. Кугультинова, «Баллада о недокурен-ной цигарке» М. Хонинова).
В современном понимании баллада - «гибридный литературный стихотворный жанр, совмещающий лирическое, эпическое (повествовательная фабула) и драматическое (диалогические реплики персонажей) начала» [Магомедова 2008, 26].
Баллада калмыцких поэтов XX в. в основном лиро-эпического плана, с ярко выраженным сюжетом на историческую или современную тематику, часто с автобиографическим элементом, строфической структурой, большого объема. Поскольку она не имела аналогов в предшествующем литературном процессе, то была ориентирована на традицию русской баллады советского периода, преимущественно героического типа: Николай Тихонов («Баллада о гвоздях», «Баллада о синем пакете», 1922), Сергей Есенин («Баллада о двадцати шести», 1924), Михаил Светлов («Гренада», 1926), Константин Симонов («Сын артиллериста», 1941) и др.
Так, поэт Гаря Даваев (1914-1943), репрессированный в 1937 г. [Це-ренов 1999, 3], написал балладу «Хеетин баллад» («Баллада о будущем», 1936). Сохранившийся ее отрывок воспроизведен в газете «Хальмг унн» («Калмыцкая правда») в 1959 г. без деления на строфы, в книжном издании 1960 г. он имел 20 четверостиший. Поэт следовал традиции калмыцкой версификации (анафора разных видов: парная, перекрестная, сплошная, аллитерация, стихотворная строка из трех слов). Его баллада на военную тему - это не авторская рефлексия на конкретное событие: показ воздушного боя вражеских самолетов с самолетом калмыцкой летчицы отсылает к будущим сражениям. Кроме того, тогда не было профессиональных летчиц-калмычек, за исключением планеристок, например, Надежды Кулешовой. Поэтому авторское уточнение в заглавии - о будущем - отвечало тематике советской поэзии тех лет: готовность к будущей войне, уверенность в скорой победе над любым врагом. Отрывок из баллады Даваева начинается с описания ночного полета Эрвены Нимеевой, защищающей советский народ на своем «крылатом коне»: «...Нимэн Эрвц куукн / Нисдг мерэн тохв, / Советин булэн харсхар / СееНин кемжэ хасв» [Даван 1960, 15]. Бой советского летчика с 20 вражескими летчиками неравен. Эрве-на, раненная пулеметной очередью в правую кисть, обратилась к ветру с просьбой помочь ей в битве, ради этого она готова умереть, забыв песни любимой родины, не увидев милого отцовского лица. В книжном варианте стихотворения усилен патриотический пафос: вместо семейного вектора теперь общественный («не увидев лица друзей»), Эрвена поклялась в этом от имени великой партии: «Алдр партии нерэр / АндНар егэд оркв...» [Даван 1959, 3], то есть ВКП(б). Балладный элемент таинственности проявился в концовке произведения: непонятно - спаслась героиня или погибла. Так, в газетном варианте, «раздвинув» черные тучи, летчица вернулась в бой: «Хар уулд зааглад, / Хэру дээнур орв...» [Даван 1959, 3], в книжном -завершила свое дело: «Хэру кергэн куцэв» [Даван 1963, 18].
Другой балладный элемент наблюдаем во включении в текст фантастического двоемирия: вражеские летчики сравниваются с ожившей нечистой силой - «эмд бирмд» (калм. «бирмн» - «злой дух, черт, сатана»), угрожающей жизни советского летчика. Вспомним, как в «Балладе о сержанте Доеве» Л. Инджиева главный герой понял, что убитый им немецкий снайпер - это женщина: «И хоть я ведьму порешил, / Но все же мне тошно стало» (пер. Д. Долинского) [Инджиев 1988, 55]. Таким образом, архетип баллады русского романтизма в сюжетных коллизиях «свой» и «чужой», этот и «иной» миры был стратегически переформатирован калмыцкими авторами на противостояние советского и несоветского, наших и не наших, союзников и врагов.
Новая лексика в тексте представлена Даваевым неоднородно, например, безэквивалентное русское слово «самолет» и калмыцкий перевод слова «летчик» («нисэч) от глагола «нисх» - «летать». Советский самолет сравнивался с крылатым конем («нисдг мерн»), горным орлом («уулын Нэрд»), чайкой («цах»),
С балладой Г. Даваева тематически созвучно стихотворение Басанга Дорджиева (1918-1969) «ТоНруна туск баллад» («Баллада о журавлях», 1943). По словам А. Кичикова, основой баллады стал реальный эпизод периода Сталинградской битвы, о котором поэт-фронтовик узнал из газеты «Красная звезда»: стая птиц атаковала самолет фашистского летчика, мстя за убитого им журавля [Кичгэ 1963, 3]. В балладе осенние журавли, улетая в теплые края, перекликались с советскими бойцами. Диалоговая конструкция передана приемом олицетворения: журавли поздоровались с воинами, обещав скоро вернуться, а люди спросили у дорогих гостей, в Африку ли они летят. На прощание птицы пожелали солдатам крепко защищать родину. Внезапно появившийся немецкий самолет, нарушив тишину, пулеметной очередью расстрелял стаю.
Лиризация баллады проявилась в актуализации авторского «я», риторический вопрос к асу: зачем он, высокомерный человек, убивавший беззащитных людей, так обошелся и с беспечно летевшими черноголовыми журавлями? «Харсг уга эмтиг / Хаж; деерлкдг андн, / Харадан нисч йовсн / Хар келн тоНруг яНчквч?» [Дорджиев 2008, 19]. У калмыков причинение вреда этим птицам считается грехом, за который придется расплатиться: журавль мстителен. И, действительно, птицы атаковали самолет, застряв в его моторе, и машина врезалась в землю. Дорджиев завершил балладу размышлением о том, что хотя рассказанные им примеры невероятны, эту историю о журавлях люди впишут в особый ряд: «Туукин алдр улгурмуд, / Теруц куунд иткгдшго, / ТоНруна туск белгиг / Тевшунэр зерглэндэн орулх» [Дорджиев 2008,20], иначе говоря, его баллада военных лет станет действенным оружием в борьбе против фашистов. Структурно текст разделен на 14 катренов (56 строк), анафора в основном сплошного вида, а также парная и перекрестная, с «расшатанной» рифмовкой и рифмой.
При переводе стихотворения Ю. Островский включил личностный мотив, изменив общий регистр диалога бойцов с птицами на индивидуаль- ный в косвенной речи: «Я с ними беседовал тихо, / Желал уберечься от бед. / Последний журавль с журавлихой / Курлыкали внятно в ответ» [Дор-джиев 2008, 448]. Если в оригинале погибла одна птица, то в переводе журавлиная пара, отмеченная в диалоге с солдатом, была убита пулеметным огнем: «Лишь крайний журавль с журавлихой / На луг, распластавшись, легли» [Дорджиев 2008, 449]. Тогда стая журавлей атаковала самолет, по версии Ю. Островского, ушедшего от огня советских батарей и выместившего злобу на птицах. Героическим мажором переводчик завершил балладу: «А в небе под солнцем лучистым / Пел гимны отряд журавлей / Тому, кто дорогу расчистил / Отважною смертью своей!» [Дорджиев 2008, 449]. По сравнению с оригиналом перевод состоит из 10 катренов без прямой речи.
Сравним у Ивана Исходы схожий сюжет в «Балладе о журавлях» (1943). Суровый ритм стиха о военных буднях («Ни встать, ни двинуться / - такой кругом огонь! / Винтовку стиснула горячая ладонь. / Вот так лежали мы») сменяется лирической интонацией автора при виде птиц: «А в сизой мгле, вдали, / Над фронтом пролетали журавли. / “Курлы, курлы!..” (И детством мир запах.) / Домой, домой их звал чумацкий шлях» (пер. В. Звягинцевой) [Исхода 1970, 555]. В мир беззащитной природы враждебно вторгается опасный мир человека: «...Прожектор их поймал... Вон огненные нитки - / По журавлям враги стреляли из зенитки!» [Исхода 1970, 555]. Одна птица упала с высоты, но клин «летел вперед, не дрогнув, ровно шел / Туда, туда, домой...» [Исхода 1970, 555]. Характерный для баллады прием антитезы показывает два мира (птиц и людей) в ситуации войны, две враждующие стороны - советские и немецкие солдаты. У Дорджиева журавли улетают в чужие края, у Исходы - наоборот: возвращаются на родину, домой. Это соответствует авторской интенции в показе Великой Отечественной войны: «Война. В дороге трудной, длинной / Звала нас родина той песней журавлиной» [Исхода 1970, 555]. Поэтому единение птиц и воинов манифестировано заключительными строками баллады: «“Курлы, курлы...” - неслось, как трубный клич, над нами. / И так хотелось стать нам журавлями! / Тогда мы поднялись с израненной земли, - / Пусть мины, пусть огонь, / за вами, журавли!» [Исхода 1970, 555]. Пример пернатых вдохновил бойцов в борьбе за родину, что подчеркнуто восклицательными знаками как маркерами. Два ключевых символа баллады - журавли и земля - акцентируют мотивы детства, родного дома, родины, мира, семьи, усиленные эпитетом «израненной» земли и автобиографическим компонентом.
То же обращение к родной земле на войне есть в стихотворении поэта-фронтовика Лиджи Инджиева (1913-1995) «Булгин туск баллад» («Баллада о роднике», 1987). Его произведение предваряет эпиграф-посвящение погибшим молодым землякам-партизанам Владимиру Косиеву, Тамаре Хахлыновой, Юрии Клыкову, их клятве: «Терскэн харслйна ноолданд эмэн неелго орлцсн бай-дуувр партизанмудт - Косин Владимира Хах-лына Тамарт, Клыков Юрийд - теднэ тацйргудт иерэдгджэиэ» [Инджиев
1992, 116]. Баллада построена на ретроспекции: автор в своем рассказе о степном роднике, к которому приходят женщины с детьми за водой, напомнил о том, как во время войны здесь был бой отважной молодежи с фашистами. Неожиданно напав с трех сторон, партизаны разгромили врага и исчезли в сумерках. Уцелевшие немецкие солдаты решили извести партизан, отравив родник, но это им не удалось: вода оставалась чистой. Тогда враги засыпали родник, но вода раздвинула песок; после того, как родник пытались завалить камнями и металлом, он вышел в другом месте. Став знаменитым, родник вызывал в памяти людей имена героев. Кольцевой композицией Инджиев возвращал читателей в современность: по-прежнему приходят к роднику женщины с детьми, теперь воспевая в песнях имена борцов за родину: «Берэд, куукд цувлдад, / Булг тал ирцхэнэ, / Тацсг баатрмудын нердиг / Тедн дуундан келцхэнэ» [Инджиев 1992, 118]. Эта баллада о далеком времени также построена на контрасте: войны и мира, воды и камня / песка / металла, фашистов и партизан, прошлого и настоящего, жизни и смерти, забвения и бессмертия. Символ родника в ассоциативной цепи рождает контекстуальный ряд: родник - род - народ -родина. Структура баллады неоднородна в строфическом плане (74 строки). Анафора тоже строго не выдержана: парная, перекрестная, сплошная с нарушениями единоначалия, произвольная рифмовка и рифма.
У поэта-фронтовика Морхаджи Нармаева (1915-1993) одна из баллад «’’Тигрлэ” hap бэрлдлйн» («Рукопашная с “Тигром”»), имеющая батальный характер, также ретроспективна. Автор вспомнил о боях 1943 г. на Украине, под Полтавой, где прославился герой баллады - Григорий Рыбников, вступивший в рукопашный поединок с фашистским танком «Тигр». «Кезэнэ болен йовдл, / Келж егхэр седжэнэв, / “Тигр” танкла hap бэрлдлЬ / Тегэд ода сергэящнэв. // Украина, Полтава медлэ, / Элду дээч билэ, Рыбников Григорий гиж, / Эцдэн нернь туурла» [Нармаев 1987, 103]. По канону балладного жанра во время сражения советские бойцы увидели невероятное зрелище: на башне вражеского танка стоял во весь рост какой-то человек. Сумасшедший, ищущий смерти, подумали они: «Акад юмб, алии кумб, / Уксэн хээж йовхмб?» [Нармаев 1987, 103]. Когда хватились Рыбникова, не сразу его нашли. Тот, объявившись, сообщил, что захватил «тигра», теперь его надо вытащить. Ребята, не поверив, стали посмеиваться над товарищем. Диалог между однополчанами перерос в монолог Рыбникова, когда они, увидев в водоеме тяжелую немецкую машину с убитым лейтенантом, поинтересовались, каким образом удалось захватить танк. Удивительный рассказ Григория, как он барсом запрыгнул на машину, затем выстрелил в танкиста, высунувшегося из люка, как танк съехал в воду, вызвал одобрение товарищей. Они сфотографировались возле необычного трофея, вытянутого на берег, а командир полка Студиникин наградил храброго сержанта орденом «Солдатская слава». Автор не уточнил, какой степени - первой, второй или третьей - награду вручил Рыбникову его командир, главное, что захваченный танк стал сражаться против своих бывших хозяев. Эта баллада своей кольцевой композицией тоже возвращала читателей из военного прошлого в мирные будни, чтобы показать поступок, о котором, по словам автора, хочется заново рассказать всем спустя много лет.
Сказанное подтверждает мысль С.Л. Страшнова о том, что «необычное поэты находят рядом, идеал - в действительности. Отныне не фантастическое предание значительнее и даже реальнее повседневной жизни, как это представлялось романтикам прошлого, - наоборот, сама действительность встает вровень с легендой, а подчас и превосходит ее. Непридуманная, но и небывалая мощь <.. > отличает балладных героев русской советской литературы <.. .>» [Страшнов 1991, 11], добавим - и калмыцкой поэзии XX в.
Баллада Нармаева структурирована 32 катренами с разными видами анафоры, преимущественно парной, часто нарушаемой, с произвольной рифмовкой и рифмой (132 строки). Также использована безэквивалентная русская лексика: танкист, танк, название «тигр» (калм. «ирвск»), орден (калм. «зууйэч»), «Солдатская слава» (калм. «Салдсмудин туурмж»), полевая сумка («полевой сумкан»), мотор («моторнь»).
Тематически эта баллада в калмыцкой поэзии близка балладе поэта-партизана Михаила Хонинова (1919-1981) «Орел-Курск дуйуд» («На Орловско-Курской дуге», 1959) о противоборстве тяжелых танков «Тигр» и «КВ» («Климент Ворошилов») [Хоньна 1960, 67-69], в русской поэзии -«Балладе о танке ”КВ“» (1942) фронтового корреспондента И. Сельвин-ского. Здесь имена конкретных героев названы в тексте, как у Хонинова (Бадма Санджиев), или в посвящении, как у Сельвинского (Тимофеев, Останин, Горбунов, Чернышев и Чирков).
У русского поэта балладный мотив мертвеца трансформировался в мотив «мертвого» танка, «танка-привидения», оживающего спустя две недели и вновь вступающего в бой с немцами: экипаж подбитой машины вынужден был притаиться на передовой, чтобы ввести в обман противника [Сельвинский 1971, 359-362]. «И вдруг в тиши услыхал офицер, / Как засмеялся танк. / И чуть ли не маска, влитая в бронь, / Тихо сказала “Огонь! ”» [Сельвинский 1971, 362]. Тот же мотив, казалось бы, «мертвого» танка в «Балладе о танке» (1941) Александра Яшина, когда советский танк вытянули на цепи из болота вражеским, но неожиданно для фашистов вдруг заработал его мотор, и машина устремилась к своим, потащив за собой уже немецкий трофей [Яшин 1985, 20-21]. Также победой советского танка над немецким завершился поединок в битве за Сталинград в «Балладе об уральском танке» (1942) фронтовика Марка Гроссмана [Гроссман 1974, 14-15]. Солдат с Урала и машина, сделанная на уральском заводе, стали героическими символами победы. Другой героический ракурс советского танка периода войны показан фронтовиком Михаилом Анчаровым в «Балладе о танке “Т-34”, который стоит в чужом городе на высоком красивом постаменте» (1965). Это монолог «ожившего мертвеца», машины, погибшей потому, что экипаж не смог наехать на куклу, символ чужой семьи, среди развалин дома. Танк сравнивается с Христом («смертию смерть по- прав»), с застывшим боем, с любовью, застывшей на века [Анчаров 1992, 48-49].
В стихотворении М. Хонинова «Зургин туск баллад» («Баллада о портрете», 1969) экфрасис обусловлен ленинской темой. Сюжет созвучен «Балладе о синем пакете» Николая Тихонова: трудный мотив срочной доставки к месту назначения. Калмыцкая баллада написана от первого лица. Зимний лес, крепкий мороз, глубокие сугробы усложняли выполнение приказа - передать ленинский портрет в партизанский штаб, а полученное в пути партизаном пулевое ранение чревато смертью. Сюжетный элемент решения трудной задачи подкреплен обращением раненого человека за поддержкой к портрету, хранимому за пазухой (диалогический экфрасис). При этом визуализация артефакта отсутствует; неясно, что это - фотография, репродукция картины, журнальная, газетная вырезка, листовка, какого размера, цвета и т.д. Но общение человека с такой вещью, понимание того, что боевые товарищи ждут его, придает силы. Внутренний монолог партизана передавал смятение, сомнение, надежду, веру. Он подумал, если в двадцать лет не одолеть смерть, то когда это можно сделать? Мир природы враждебен человеку: небо призвало быстрее повалить его, чтобы вернуть свою звезду, упавшую к нему, но услышало ответ юноши, что он жив, не сдастся, дойдет до людей, обрадует их. Добравшись вечером в штаб, партизан вручил портрет командиру, услышав благодарность, подтвердил, что всегда готов выполнить воинский приказ. «Тиигж; кургэд / команди-рин Нарт / ТееНэд ирсн / зурган егув, / Командир намаг / арйул кевтулэд: / “Кергэн куцэсндтн / ханжаиав”, - гив. / - Заквритн кезэчн / куцэхув, -гивув...» [Хоньна 1969, 60]. Баллада завершилась экфрастической деталью: «Зургм, Ленин / емнм герлтв...» [Хоньна 1969, 60], те. «передо мной сиял портрет Ленина». Балладный мотив таинственности здесь своеобразно воплощен в сакральном коде - портрет покойного вождя российской революции, но без конкретного описания изображаемого артефакта.
Ср. в «Балладе о синем пакете» секретное донесение, оставшееся неизвестным для бойца и читателя, но оказавшееся бесполезным для человека во френче (он уже все знал) [Тихонов 1987, 471-473], - подвиг обессмыслен. В этой балладе, по словам Е. Эткинда, нет никакого революционного романтизма, как принято считать, «это воспевание не подвига, не героизма, не высокой идеи, а армейской дисциплины. Поэзия бездумного подчинения: приказ есть приказ» [Эткинд 1999, 679, 680]. В отличие от тихоновского героя, хониновский герой знал, что именно должен доставить, это поддержало его в пути, он подтвердил готовность к выполнению новых приказов. И заслужил благодарность командира по сравнению с бойцом Тихонова: его человек во френче брезгливо вытер руки после прочтения донесения из грязного, окровавленного пакета и бросил бумагу на кремлевский ковер.
Калмыцким поэтом также использована безэквивалентная русская лексика: отряд, штаб, командир; диалоговая конструкция разнообразна: партизан - командир, небо - партизан, командир - партизан, внутренний монолог лирического субъекта. Весь текст выстроен «лесенкой», без строфического деления (163 строки), но с обязательной анафорой преимущественно парного вида, изредка перемежаемой сплошной анафорой, с произвольной рифмовкой.
Среди нескольких хониновских баллад на военную тему и «Зергиг зуркнд суулйдг болхнь...» («Если б в сердца пересаживать отвагу...», 1976). В авторской рукописи отмечен жанровый подзаголовок («баллад»). Сюжет-испытание передавал историю о том, как пятеро партизан, не выполнивших боевое задание (взорвать мост), были вновь отправлены командиром по назначению. Избежать трибунала им удалось благодаря воспоминанию командира о далеком детстве, когда верблюдица плачем спасла верблюжонка от смерти - от чабана с ножом, и теперь ей кланялся автор из военной дали. Этот «эпизод с верблюжонком завершает кольцевую композицию стихотворения, стягивая в сюжетный узел природное и человеческое, войну и мир, милосердие и жестокость» [Ханинова 2015, 121]. Введением части калмыцкой пословицы о том, что молодняк блеет и становится скотом, человек мучается и в люди выходит, поэт подчеркнул дидактический вектор случая: «Мал меерэ, / меерэ йовж, / мал болдг. / Туушлж; эдн / тенд-энд / халйа йовж; / толжэд, дээчнр эс болхий?» [Хоньна 1976, 16], т.е. и эти партизаны, окрепнув в боях, станут воинами. Стратегии автора и переводчика А. Николаева [Хонинов 1977, 162-166] в общем плане имеют единую интонацию, «способствующую выявлению истоков героизма в войне за отечество» [Ханинова 2016, 407].
В послевоенной калмыцкой поэзии следующее поколение также актуализировало балладу о войне, например, «Баллада о мальчике» (1957) [Балакаев 1961, 4], «Баллада о друге» (1965) Алексея Балакаева [Балакаев 1965 а, 4]. Оно ориентировалось на опыт предшественников, фокусируя историческую память о военном детстве, героях-земляках.
Социальная баллада представлена, например, «Балладой о дороге», «Матерью-землей», «Родником жизни» Алексея Балакаева [Балакаев 1962, 58-63; Балакаев 1965 Ь, 28-30; 35-40], «Балладой о псе Балтыке» Владимира Нурова [Нуура 1974, 8-11; Нуров 1981, 91-95], историческая -«Балладой о девушке Розе» М. Нармаева [Нармаев 1978, 26-34; Нармаев 1987, 93-96], «Балладой о недокуренной цигарке», «Балладой о калмычке» М. Хонинова [Хоньна 1966, 57-62; Хонинов 1972,40-74; Хоньна 1981, 97-149]. В то же время калмыцкой поэзии не свойственны такие виды баллад, как любовная баллада, баллада-пародия, рок-баллада.
Итак, исследование рецептивного потенциала репрезентативных произведений выявило, что формирование заимствованного калмыцкими поэтами жанра баллады относится к 1930-1940-м гг. (Даваев, Дорджиев), развитие - к 1960-1970-м гг, затем наблюдается угасание, говоря словами М.М. Бахтина, «памяти жанра» [Бахтин 2002, 137]. С самого начала доминирующей стала «политическая баллада» [Квятковский 1966, 56], как отклик на современные события и как историческая память, прежде всего, о Великой Отечественной войне, реже Гражданской войне, созданная калмыцкими поэтами фронтового поколения. Для этих баллад характерны следующие стратегии: автобиографический компонент, документализм (локализация военных событий, реальные имена и фамилии персонажей в тексте и посвящении), художественный историзм, типическая героизация, сюжетность, реже лиризация авторского «я», диалогичность, символические маркеры, безэквивалентная лексика, большой объем, стихотворный размер, свободная форма строфики, в том числе «лесенка», национальная версификация (разные виды анафоры, аллитерация). Мотив двоеми-рия трансформируется в изображение врагов как нечистой силы, несущей смерть (Даваев, Инджиев), в то время как жанровый кодификатор ожившего мертвеца - советского танка, танка-привидения, его экипажа - актуализирует жертвенность, самоотверженность и бессмертие советского воина. Одномирие связано с современностью, далекой от мистики и фантастики. Герои совершают необыкновенные подвиги, которые воспринимаются ими самими как ратный труд во имя родины, их героизм типичен для советского человека. Балладным элементом таинственности, недоговоренности усилен сюжет-поединок, сюжет-испытание. Функция экфрасиса, в том числе диалогического, направлена на углубление психологического компонента текста. Баллада о войне «как нельзя лучше отвечала запросу эпохи - описанию и осмыслению национальной истории в определенном ракурсе. <...> Она органично становилась “формой времени”» [Анисимова 2018, 78].
Сравнение калмыцких баллад с русскими балладами о войне подтверждает сохранение и развитие традиции советской политической поэзии в литературе народов России.
Список литературы Баллада о войне в калмыцкой поэзии ХХ в
- Анисимова Е.Е. Русская баллада: жанровый архетип и его историзация//Память жанра как феномен единства и непрерывности литературного развития: сборник научных трудов/ред.-сост. М.Н. Дарвин, О.В. Федунина. М., 2018. С. 69-78.
- Анчаров М. Звук шагов. М., 1992.
- Балакаев А. Баллада о друге//Советская Калмыкия. 1965. 25 июня. С. 4.
- Балакаев А. Баллада о мальчике//Советская Калмыкия. 1961. 21 мая. С. 4.
- Балакаев А.Г. Счастье, подаренное Лениным. Элиста, 1962.
- Балакаев А.Г. Крылатая молодость. Стихи и поэма на калм. яз. Элиста, 1965.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского//Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 5-300.
- Джамбинова Р.А., Салдусова А.Г., Ханинова Р.М. Литература//История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3 т. Т. 3. Элиста, 2009. С. 492-528.
- Дорджиев Б. Б. На степных просторах: избранные произведения/на калм., рус. яз. Элиста, 2008.
- Инджиев Л.О. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1/на калм. яз. Элиста, 1992.
- Инджиев Л.О. Чистое небо: стихи и поэма-сказка/пер. с калм. Элиста, 1988.
- История калмыцкой литературы: в 2 т. Т. 2. Элиста, 1980. 14. Квятковский А.П. Баллада//Поэтический словарь. М., 1966. С. 55-56.
- Магомедова Д.М. Баллада//Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий/гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. С. 26-27.
- Нармаев М.Б. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1/на калм. яз. Элиста, 1987.
- Нармаев М.Б. Четырнадцать богатырей: стихи и поэмы/пер. с калм. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1978.
- Нехода И. Баллада о журавлях//Великая Отечественная. Стихотворения и поэмы: в 2 т. Т. 1. М., 1970. С. 555.
- Нуров В. Баллада о псе Балтыке//Нуров В.Д. Солнечный колодец: стихи/пер. с калм. Элиста, 1981. С. 91-95.
- Русско-калмыцко-монгольский словарь литературоведческих терминов/сост. С.Н. Цеденова. Элиста, 2012.
- Сельвинский И.Л. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 1. М., 1971.
- Страшнов С.Л. «Молодеет и лад баллад»: баллада в истории русской советской поэзии. Литературно-критические статьи. М., 1991.
- Тихонов Н.С. Баллада о синем пакете//Мысль, вооруженная рифмами/сост. В.Е. Холшевников. Л., 1987. С. 471-473.
- Ханинова Р.М. «Баллада о жалости» М. Хонинова в аспекте фольклорных традиций//XII Сургучевские чтения. Литература и журналистика в пламени войны: от Первой мировой до Великой Победы. Ставрополь, 2015. С. 118-125.
- Ханинова Р.М. Баллада М. Хонинова о войне: фольклорные традиции и новации//Кочевые народы юга России: исторический опыт и современность. Элиста, 2016. С. 403-407.
- Хонинов М. Баллада о жалости//Хонинов М.В. Подкова: стихи и поэма/пер. с калм. М., 1977. С. 162-166.
- Хонинов М. Баллада о недокуренной цигарке//Хонинов М.В. Все начинается с дороги: стихи/пер. с калм. М., 1972. С. 70-74.
- Церенов В. Следственное дело № 325//Известия Калмыкии. 1999. 31 марта. С. 3.
- Эткинд Е. Литературное самоубийство Николая Тихонова//Revue des études slaves. 1999. T. 71. № 3-4. Р. 673-680.
- Яшин А. Баллада о танке//Неизвестный солдат: стихи. Кишинев, 1985. С. 20-21.
- Даван Һ. Хөөтин баллад (Тасрхань)//Хальмг үнн. 1959. Июлин 28. Х. 2.
- Даван Һ. Хөөтин баллад (Тасрхань)//Даван Һ. Шүлгүд болн поэмс. Элст, 1960. Х. 15-18.
- Кичгә Т. Шүлгч болн романч//Хальмг үнн. 1963. Мартын 29. Х. 3.
- Нуура В. Баргин туск баллад//Нуура В. Җирһлин үндсн: шүлгүд. Элст, 1974. Х. 8-11.
- Миронов А.С. Либеральная интерпретация смыслов русского эпоса в российском эпосоведении, педагогике, искусстве//Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2018. №2 (29).
- Хоньна М. Зөргиг зүркнд суулhдг болхнь...//Хоньна М. Шүлг мини, делгр: шүлгүд болн поэмс. Элст, 1976. Х. 12-18.
- Хоньна М. Зургин туск баллад//Хоньна М. Мини теегин хавр: шүлгүд болн поэмс. Элст, 1969. Х. 55-60.
- Хоньна М. Күцс эс татгдсн цигарк//Хоньна М. Цаһан нуурин айсмуд: шүлгүд болн поэмс. Элст, 1966. Х. 57-62.
- Хоньна М. Үүлнә туск баллад//Хоньна М. Әрәсән теңгр дор: шүлгүд болн поэмс. Элст, 1971. Х. 60-63.
- Хоньна М. Хальмг күүкнә баллад//Хоньна М. Баһ насн, ханҗанав: шүлгүд болн поэмс. Элст, 1981. Х. 97-149.