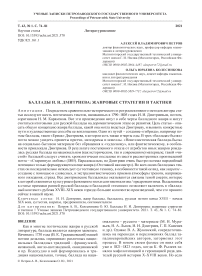Баллады И. И. Дмитриева: жанровые стратегии и тактики
Автор: Петров А.В., Колесникова О.Ю.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Посредством сравнительно-исторического и ретроспективного методов авторы статьи исследуют шесть поэтических текстов, написанных в 1790-1805 годах И. И. Дмитриевым, поэтом, соратником Н. М. Карамзина. Все эти произведения несут в себе черты балладного жанра и могут считаться итоговыми для русской баллады на доромантическом этапе ее развития. Цель статьи - описать общую концепцию жанра баллады, какой она могла видеться Дмитриеву, и выявить конкретные пути и художественные способы ее воплощения. Один из путей - создание «гибрида», например поэмы-баллады, таков «Ермак» Дмитриева, в котором есть также и черты оды. В трех «балладах-былях» поэта можно увидеть приметы притчи, мелодрамы и новеллы. «Новеллистическая баллада-быль» на социально-бытовом материале без обращения к «чудесному», или фантастическому, в особенности привлекала Дмитриева. В результате постепенного отказа от атрибутов иных жанров рождалась русская баллада на национальном (как историческом, так и современном) материале; такой «чистой» балладой следует считать хронологически последнее из шести рассмотренных произведений поэта - «Старинную любовь» (1805). Парадоксально, но Дмитриев очень быстро осознал пародийный потенциал только формирующегося еще жанра («Отставной вахмистр»). Во всех своих балладных текстах он последовательно использует суггестивную технику, в особенности такой ее вид, как suspense -создание с помощью и словесных, и экстралингвистических приемов атмосферы тревоги, напряженного ожидания, страха. Все дмитриевские балладоиды оказываются связаны темой смерти, интерес к которой становится культурным феноменом эпохи сентиментализма / предромантизма. Выделенные в статье признаки ранней русской баллады и балладной «техники» позволяют включить в «балладный контекст» рубежа XVIII-XIX веков гораздо большее количество произведений, чем это принято сейчас в нашей науке.
И. И. Дмитриев, жанр баллады, балладоид, русская поэзия конца XVIII - начала XIX века, суггестия, suspense, предромантизм, сентиментализм
Короткий адрес: https://sciup.org/147227324
IDR: 147227324 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.570
Текст научной статьи Баллады И. И. Дмитриева: жанровые стратегии и тактики
Как и многие поэтические жанры в русской литературе, баллада является жанром заемным. Начиная с 1730 года (В. К. Тредиаковский) нашей поэзии делались «прививки» различных национальных балладных традиций – французской, испанской, англо-шотландской, скандинавской и пр. Подспудно в ней формировалась и традиция национальная, точнее, баллада на наци- ональном – русском – материале (М. Н. Муравьев, Н. А. Львов, И. И. Дмитриев, Г. П. Каменев и др.). Однако В. А. Жуковский, сосредоточившись на переводах и переложениях баллад западноевропейских авторов, затормозил этот процесс. В новом своем фазисе он явил себя уже в 1821–1823 годах, когда К. Ф. Рылеев занялся мифологизацией и героизацией ряда деятелей русской истории X–XVIII веков. Но если
судьба русской романтической баллады 1810– 1860-х годов изучена в нашей науке достаточно хорошо, то история «протобаллады» 1790– 1800-х годов прослежена пунктирно и точечно (см., например: [2: 67–78], [4], [5: 144–149], [9], [10], [11], [12]). Некоторые «балладоидные» (определение В . Н. Топорова) тексты этого времени, например Карамзина, Боброва, Львова и Дмитриева, демонстрируют, по каким путям могла бы развиваться временно оттесненная на второй план оригинальная русская баллада.
СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА.
МЕТОДОЛОГИЯ
Несмотря на небольшое и вполне обозримое количество баллад и балладоидов в русской литературе XVIII – начала XIX века, они до сих пор еще не выявлены полностью. Самые известные из них, «канонические», числом до 20, рассматриваются в трех кандидатских диссертациях (Л. Н. Душиной (1975), М. А. Александровской (2004), А. Е. Шумахер (2015)) и в двух десятках статей. Полагаем, что число балладоидных произведений, написанных до 1808 года, с учетом анонимных публикаций в журналах, следует удвоить.
1808-й – год появления первой баллады Жуковского – можно считать неким «водоразделом», гранью между балладой доромантической и романтической. При этом баллады и другие жанры, продолжающие традиции литературы XVIII века, будут создаваться до половины XIX века. Тот же Рылеев попытается соединить доромантическое и романтическое в своих балладах и «думах».
Что касается баллад И. И. Дмитриева, то сам их отбор был произведен нами в пособии 2012 года, там же была намечена схема их ис-следования1. Методологической основой стали сравнительно-исторический метод и ретроспективный анализ; последний предполагает, что балладоподобное произведение рассматривается с позиций современного понимания балладного жанра. К настоящему времени общие, характерные черты этого жанра описаны многократно: отечественные ученые сделали это в 1960– 1980-е годы (М. П. Алексеев, А. А. Гугнин, Л. Н. Душина, Р. В. Иезуитова, А. С. Янушкевич и др.), западные – на рубеже XIX–XX веков (см., например: [13], [14]).
По этому пути пошла А. Е. Шумахер в статье 2013 года [12] и в диссертации 2015 года2. Исследовательницу заинтересовали прежде всего мотивика и сюжетика двух баллад – «Отставного вахмистра» («Карикатура») и «Старинной любви», а также двух «Былей»; прочие вопросы изучения дмитриевских баллад были в диссертации либо только намечены, либо не поставлены. Мало изучено в нашей науке и такое балладоид-ное произведение поэта, как «Ермак». В целом следует констатировать, что «стратегии» и «тактики» Дмитриева-балладника остаются непроясненными.
Общее количество произведений Дмитриева, которые с точки зрения ретроспективного анализа можно отнести к балладам, – минимум шесть . И это больше, чем у любого из его предшественников и современников, если иметь в виду хронологию написания этих шести произведений – с 1790 по 1805 год. Ни для одного из авторов XVIII века балладные искания не стали определяющими; не были они таковыми и для Дмитриева. Но именно он, создав наибольшее количество балладоидных произведений, невольно стал завершителем тех поисков в балладно-романсном жанре, которые имели место в русской литературе последних десятилетий XVIII века.
«ЕРМАК» И ЕГО «ПРОТОБАЛЛАДНЫЕ» ЧЕРТЫ. SUSPENSE
Как баллады сам Дмитриев определил два своих стихотворения – «Отставной вахмистр» (1792; 1803) и «Старинная любовь» (1805). Балла-доидным является такое известное его произведение, как «Ермак» (1794). Собственно балладой считал «Ермака», пожалуй, только Д. Д. Благой [1: 669]; другие ученые называли его «обновленной одой» (Г. П. Макогоненко, Н. Д. Кочеткова, Л. И. Еременко); третьи видели в нем приметы поэмы, не уточняя ее жанровой специфики (Е. Н. Купреянова, А. Я. Кучеров, Ю. А. Беляев, Д. П. Николаев). В своих работах мы развивали взгляд на «Ермака» как на предромантическую историософскую поэму, выросшую из батальной оды [8: 114–126], [15]. Балладный компонент, безусловно присутствующий в нем, нами не рассматривался. Восполним этот пробел.
Мы остаемся при своем прежнем мнении о жанровой природе «Ермака»: это лиро-эпикодраматическая поэма с приметами «нисходящего» жанра – оды и жанра «восходящего» – баллады. Черты баллады в нем реконструируются с помощью указанных выше методов . С балладой «Ермака» сближают небольшой объем и динамичный сюжет, тема исторического прошлого, изображение экзотического пространства и героев (Сибирь и шаманы), «ночная» образность, эстетика «страшного» и суггестивная техника. Большая часть перечисленных балладных черт самоочевидна; остановимся только на двух последних, тем более что они взаимосвязаны.
В общем виде под суггестией понимается «способность литературы воздействовать на подсознание читателя» [6: 277]. Осознанное использование системы средств, направленных на достижение суггестивного эффекта, исследователи связывают с европейским предро-мантизмом, прежде всего с романом Энн Рэдклиф «Удольфские тайны» – в прозе (вышел в 1794 году – тогда же, когда и поэма Дмитриева); с «Поэмами Оссиана» (нач. 1760-х годов) Дж. Макферсона – в поэзии [6: 277–285]. В готическом романе оказался востребован особый вид суггестии – suspense – создание тревожного ожидания, атмосферы таинственной неопределенности, опасности, страха [6: 283–284], [14: 113]. В русских «протобалладах» suspense был использован М. Н. Муравьевым в «Неверности» (1781), Н. М. Карамзиным в «Раисе» (1791) и самим Дмитриевым в «былях».
В «Ермаке» он обращается к приемам suspense , в особенности к экспрессивной лексике и к звукописи, в следующих случаях:
-
1) рисуя портрет сибирских шаманов, похожих на «тени, в аде заключенны»:
На каждом вижу я наряд, Во ужас сердце приводящий! etc. (78)3;
-
2) описывая поединок Ермака и Мегмет-Кула: Ужасный вид! они сразились!
-
<…> От вопля их дубравы воют;
-
<…> Уже в них сердце страшно бьется, И ребра обоих трещат <…> (80);
-
3) изображая сцену молитвы старого шамана и жертвоприношения в лесу:
Внемли, мой сын: вчера во мрак Глухих лесов я углубился <…> Вдруг ветр восстал и поднял вой; С деревьев листья полетели;
Столетни кедры заскрыпели, И вихрь закланных серн унес! Я пал и слышу глас с небес: «Неукротим, ужасен Рача, Когда казнит вселенну он. <…>» (81);
-
4) создавая демонический образ Ермака. Сошлемся здесь на наши прежние наблюдения: «Наследующий некоторые качества и атрибуты Иеговы, его ангелов, Моисея и всадников Апокалипсиса, Ермак изображается как источник зла, несущий смерть» [8: 124]:
<…> Куда стрелу ни посылал – Повсюду жизнь пред ней бледнела И страшна смерть вослед летела (80).
Как уже упоминалось, еще до «Ермака» Дмитриев опробовал суггестивную технику в двух балладоидах, имеющих одинаковое название – «Быль».
«БЫЛЬ» – ПОИСКИ «НАЦИОНАЛЬНОГО» ИСТОРИЗИРУЮЩЕГО ЖАНРОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ. АПОЛОГИЯ СМЕРТИ
Не исключено, что слово «быль» могло рассматриваться поэтом как национальное русское определение балладного жанра, подобное, например, испано-немецкому Romanze. В литературоведческих словарях это слово отсутствует, обратимся поэтому к толковым словарям. И в «Словаре Академии Российской», и в «Словаре» В. И. Даля слово «быль» включено в словарное гнездо «Бывать, быть». Словарь конца XVIII века фиксирует у этого слова следующее значение (с пометкой «простонар.»): ʻЧто было действительно; истинная о чем повестьʼ. Синонимом к «были» является «былица», антонимом – «небылица»4. У Даля оно включено в словообразовательно-синонимический ряд
«бывалка, бывальщина, былица, былина, быль» – то, что «было, случилось, рассказ не вымышленный, а правдивый; старин а ; иногда вымысел, но сбыточный, несказочный»5.
Скорее всего, после 1804 года Дмитриев ознакомится с теми «древними российскими стихотворениями», которые были собраны Киршей Даниловым и которые И. П. Сахаров в середине XIX века обозначит термином «былина». Однако в 1790- е годы поэт, называя свои произведения «былью», мог ориентироваться на соответствующие произведения русского фольклора, знакомые ему изустно.
Былью в этом смысле можно назвать «Отставного вахмистра», в котором описана, как считается, реальная история (445); в подлинности рассказанного Дмитриев уверяет чувствительных читательниц «Старинной любви»: «Красавицы! песнь эта – быль» (141). Полагаем, что словом «быль» Дмитриев хотел подчеркнуть ключевую характеристику создаваемой им «русской» баллады – ее историчность, то есть погруженность в реальную или мыслимую реальной историю, в том числе современную. Такова, во всяком случае, его установка в историософских поэмах «Ермак», «Освобождение Москвы» и «К Волге» [8: 114–131]. Почему бы ей не присутствовать и в создаваемых параллельно с поэмами и тематически близких к ним балладоидах? Думается, неслучайно в балладоидах Львова и Боброва, написанных в те же годы, запечатлены реальные «истории» (см. [9]).
В первой «были» Дмитриева – «Уже опять орлы российски…» (1790) – речь идет о современности – о русско-турецкой войне:
Уже опять орлы российски На дерзостных своих крылах Несут в пределы византийски С отчаянием стыд и страх (262).
Одический «словарь», достаточно архаичная лексика, особенно заметная на фоне собственно сентименталистских стихов Дмитриева, явно указывают на историзирующие устремления поэта, то есть на использование им одизмов и старославянизмов в функции специфических стилистических маркеров, придающих произведению некий «старинный» и/или «экзотический» колорит.
Произведение достаточно велико, в нем 64 стиха. В центре сюжета - современный «юный герой», только не одический, а балладный. Некий московский дворянин по имени Честон, проникшись патриотизмом, хочет прославить себя воинскими подвигами. Он просит благословения у родителей; отец произносит чувствительно-патриотическую напутствующую речь и вручает сыну свое ружье. Здесь, в 10-й строфе, сюжет делает неожиданный, одновременно достойный и трагедии, и мелодрамы, и готического романа, поворот: ружье как бы само случайно выстреливает, и от выстрела погибает сестра Честона. Исследовательница А. Е. Шумахер не без оснований полагает поэтому, что главной темой «Были» является тема судьбы, «таинственной надличной силы» [12]. Следует уточнить, однако, что Дмитриева интересует такое проявление воли Рока, как Случай , причем не в неком отдаленном историческом прошлом, как в жанре трагедии, а в современной жизни. Пожалуй, это первая в русской балладе, хотя и нехарактерная для нее, апология трагической случайности.
Немало сделал Дмитриев в этой «Были» и для развития суггестивной техники, suspense . Здесь, в отличие от «Ермака», акцент перенесен со «страшного» на «ужасное», которое создается посредством лексики, фоники и риторических приемов:
Весь дом объят печали мраком;
Всечасно слышны вопль и стон <. .> Уже в их храмины несчастны Не проницает солнца свет, И день и ночь для них ужасны, И смерть на праге их стрежет (264).
В целом можно даже сказать, что перед нами опыт русской готической новеллы.
Вторая «Быль» («Чума и смерть вошли в великолепный град.», 1792) (375-376), на наш взгляд, также развивает готическую традицию в ее «ужасном» варианте. Произведение основано на средневековом новеллистическом сюжете о «чумном городе»; об этом - первая половина «Были». Suspense представлен здесь следующими мотивами:
-
1) нагромождение ужасных смертей («Ужасно зрелище! Везде, со всех сторон / Печально пение, плач, страх, унылый звон»);
-
2) несправедливость небес («Там дева, юношей пленявшая красой, / Бледнеет и падет под лютою косой»);
-
3) близкое к натуралистическому изображение умирающего больного вкупе с «ночной» образностью («При свете пасмурном луны печальной, бледной, / Зрит старца, на гнилых простертого досках, / Зрит черно рубище, истлевше в головах <.>»);
-
4) христианские чудеса в развязке («<.> и ангел с неба, / Спустяся в хижину, смежил ему глаза.»).
В дореволюционных и советских изданиях «Быль» печаталась в разделах «Басни и сказки» и/или «Басни»; дидактический сюжет представлен во второй ее половине, где в концовке читатель получает сентименталистскую трактовку темы праведной жизни и смерти: «И капнула на труп сердечная слеза». Жанровая гибридизация была характерна в целом для русской доро-мантической баллады (см.: [2: 68-72], [5: 76-86; 144-149]), но ее образцы сейчас воспринимаются, конечно, не без иронии (ср. последнюю цитату). Неслучайно балладный жанр, в частности его тяготение к «ужасам», довольно быстро стал подвергаться пародированию; судя по всему, и сам Дмитриев осознал это очень рано (см. ниже о балладе «Карикатура»).
Сентиментализм, как это сейчас понятно, вообще был склонен к изображению трагических коллизий и к драматизации чувств. Так, в центре последней дмитриевской «Были» («Даруй мне, муза, тон согласный.», 1803) - одна из тем раннего европейского сентиментализма (заданная «Вертером» Гете): самоубийство мужчины из-за неразделенной любви, точнее, у Дмитриева, любви, скрытой от других, в том числе от самой возлюбленной. С точки зрения балладной поэтики, в частности суггестивной техники, здесь можно увидеть так называемую фермату, или задержку повествования [6: 284]. История, рассказанная поэтом, проста, если не банальна, и ее интерес, именно как нарративной конструкции, состоит в последовательном нагнетании «жгучего» читательского внимания. Развязку Дмитриев оттягивает до самой последней строки: Дамон «решился сам себя убить» (339).
Вывод из всего сказанного может показаться достаточно неожиданным. Так или иначе, развязки всех дмитриевских балладоидов связаны со смертью: Ермак несет гибель сибирским язычникам; Честон убивает сестру; люди умирают от чумы; Дамон заканчивает жизнь самоубийством. В не рассмотренных еще двух балладах наблюдается схожая ситуация.
Если мы вспомним про трагические развязки повестей Карамзина, про мортальные мотивы в его и Державина поэзии, про болезненный интерес к теме смерти / самоубийства у Радищева, Каменева и Боброва [9], то мы имеем право говорить о первой фазе «зачарованности» смертью, в которую вошла новая русская литература в 1790-е годы. В отличие от последующих фазисов (см.: [7]) и от истории западной баллады [14], эта в отечественной науке почти не исследована (см. [5: 144-156]).
МЕЛОДРАМА И ПАРОДИЯ – СЕНТИМЕНТАЛИСТСКОЕ ВИДЕНИЕ ДВУХ ИПОСТАСЕЙ ЖАНРА – «ВЫСОКОЙ» И «НИЗКОЙ»
Герой гибнет и в самой «балладной» из баллад Дмитриева - «Старинной любви» (1805) (139-141). Мало того, поэт заставляет умереть и героиню, причем этому трагическому, в общем, событию уделяет всего одну строку: взглянув на труп возлюбленного (безымянного «певца»), Милолика «увы!.. в последний раз вздохнула». Suspense здесь почти не используется - поэта интересуют другие художественные задачи. Трагическая развязка мотивирована им социальными причинами, и, кажется, это один из первых подступов к данной теме, которая станет сюжетообразующей в балладах Жуковского (в основном на уровне подсознательном, в связи с социальной ущемленностью поэта и возникшей у него в этой связи психотравмой). В балладе Дмитриева отец Милолики, «вождь великой», из «гордости» противится любви дочери к безродному певцу («Позор ты мой, не дочь мне стала! / О стыд! кто мил тебе? „.певец!») и запирает ее в терем. Певец два дня и две ночи бряцает на «томной лире», а на третий - умирает.
И здесь мы встречаемся с интересным сюжетным ходом, который имеет отношение не столько к поэтике балладного жанра, сколько к эстетическим установкам новой, разрывающей с нормативностью литературы. Адресуя свою «песнь» прекрасным читательницам, Дмитриев заверяет их в подлинности им описанного. Здесь встает вопрос: в подлинности чего? Того, что, если два дня подряд петь, играть и тосковать, можно умереть? Или того, что можно умереть, увидев труп любимого? Не будем отрицать такую возможность, хотя никаких фактов, подобных этим, газетная хроника или мемуары рубежа XVIII-XIX веков до нас не донесли. Речь, следовательно, должно вести не об историчности событий , которая в определенной мере все-таки присутствует, скажем, в балладах Карамзина
«Граф Гваринос» [11], Муравьева «Болеслав, король польский», Державина «Новогородский волхв Злогор», хотя и там изображенные события весьма фантастичны, или «чудесны», как сказали бы в то время. Разумеется, Дмитриев далек от жизнеподобия реалистического искусства; речь идет, как нам представляется, об исто -ричности чувств («Дай для красавиц я спою, / Как в старину певцы любили»). Историзирующая установка подчеркнута в самом названии баллады - «Старинная любовь» и неоднократно прокламирована в тексте: «Как мило жили в старину! / <„ .> Но мы не так живем, как деды!» и т. п. Сама «старина», при всей ее условности, соотнесена не с абстрактным историческим прошлым, но с эпохой Московской Руси. Этот период, любимый и соратником Дмитриева - Карамзиным, возможно, связывался двумя литературными единомышленниками со временем зарождения русской национальной самобытности. «Старинная», то есть не такая, как сейчас, любовь оказывается в балладе чувством героическим, жертвенным, аффективным. Понятно, что так чувствовали или хотели чувствовать сами авторы эпохи сентиментализма (здесь можно вспомнить и Путешественника из книги Радищева, и «бедную Лизу» Карамзина), которые в поисках прецедентов нового мироощущения отправились в далекое прошлое.
Предшественники и современники Дмитрие-ва-балладника почти не мотивировали любовные переживания своих персонажей исторически. Дмитриев же, помимо аспектов исторического и социального, вводит «профессиональную» и психологическую мотивацию: его герой - поэт («певец»), он и чувствует, и живет, и умирает не так, как «обычные» люди. Все это позволяет пересмотреть очень устойчивую в нашей науке точку зрения, в соответствии с которой до-романтическая (= предромантическая) баллада считается «внеисторичной»6. Об этом мы писали во многих наших работах (см., например: [8], [9], [15]); здесь скажем только, что «историзм» этот иного «качества», не такой, как у романтиков или же у советских писателей.
В «Старинной любви», помимо всего прочего, мы имеем дело с доромантическим «культом Гения» (см.: [5: 156-168]), с новым пониманием психотипа творческой личности, в особенности поэта.
Нельзя не отметить сходства сюжета «Старинной любви» с балладой-романсом Г. Р. Державина «Луч» (1807), а главное, с балладой В. А. Жуковского «Эолова арфа» (1814). Следует уточнить, таким образом, известный тезис советских ученых об оригинальности последней. Жуковский, по-видимому, оригинален в самой разработке «бродячего» сюжета, в психологическом рисунке характеров персонажей, в выработке стихотворной формы и т. д. Обо всем этом подробно писала Р. В. Иезуитова [3]. К ее наблюдениям следует добавить, что прямыми предшественниками Жуковского были не Оссиан и даже не Бюргер, а Дмитриев и ряд других русских поэтов рубежа XVIII–XIX веков. И именно Дмитриев придал «бродячему» сюжету качество национальной специфичности.
Если «Старинная любовь» – это «высокий» вариант жанра, то «Отставной вахмистр» (позднейшее название – «Карикатура») (275–278) – баллада ироническая, «сниженная», пародийная. Причем пародируется в ней прежде всего развлекательная беллетристика с характерными для нее мотивами и сюжетными ходами, пришедшими из рыцарских романов, «сказок» и пр. Дмитриев вообще был склонен к сатире и пародии; так, в 1795 году он напишет остроумный «Чужой толк», высмеивающий жанр оды. Но, поскольку к 1792 году литературных баллад в русской литературе практически не было, балладный жанр, скорее всего, не мог быть изначальным предметом пародийно-иронического остранения и метил Дмитриев все-таки в романы, «сказки» и им подобные жанры. Интересно, что «Отставной вахмистр» вышел в свет почти одновременно с переводным испанским романсом Карамзина «Граф Гваринос», причем в одном журнале, соответственно в 5-й и 6-й частях «Московского журнала» за 1792 год. Гипотетически можно предположить, что перед нами нечто вроде литературного соревнования: один из друзей-поэтов создает балладу на русском материале, другой – на чужеземном. На это есть некоторые намеки в переписке двух писателей (ср. [11: 197]). Оба стихотворения написаны белым стихом и «легким размером»: «Отставной вахмистр» – 3-стопным ямбом, «Граф Гваринос» – 4-стопным хореем. Возможно, что «быль» о вахмистре П. Н. Патрикееве была одним из опытов Дмитриева именно в балладе (как на то указывает первоначальный подзаголовок), но повествование в какой-то момент пошло в ироническом, «сказочном» ключе.
Как бы то ни было, в «Отставном вахмистре» находим целый ряд формальных и содержательных признаков баллады (пусть и иронически переосмысленных), которые впоследствии станут привычными для жанра:
-
1) исторический сюжет и соответствующая его «древности» стиховая форма;
-
2) описание «благородного» героя («витязя») и его «рыцарской» лошади; ср. с соответствующими описаниями в романсе Карамзина;
-
3) suspense с характерными для него мотивами «чудесного» («Как будто в мир волшебный / Он ведьмой занесен») и «страшного» («Всё тихо ! лишь на кровле / Мяучит тощий кот»);
-
4) сюжет разлуки и верности влюбленных (русификации при этом подверглось имя героини: на место Раисы и Алины пришла Груняша);
-
5) роковое событие (донос и арест) и последующая таинственная судьба героини («<…> об ней / Ни слуха нет, ни духа, / Как канула на дно»).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И. И. Дмитриев не создал какой-то устойчивой балладной жанровой структуры и, хотя прожил долгую жизнь, к балладе после 1805 года не возвращался. Все его балладоиды написаны на разные темы, с опорой на разные жанровые традиции, тяготеют к «гибридизации», и выявить некий «архетипический» сюжет в его «балладном метатексте», пожалуй, нельзя. Поэта интересуют как историко-легендарные сюжеты, так и сюжеты из современной жизни (причем последние даже больше); как «высокий» вариант жанра, так и «сниженный». Пожалуй, эту широту охвата подходящего для нарождающегося жанра материала можно считать «стратегией» Дмитриева-балладника. К «тактикам» же следует отнести, во-первых, концентрацию на мотивах трагической любви, смерти и случайного (рокового) в жизни; во-вторых, внимание к суггестивной технике и к такому виду суггестии, как suspense . Считаем также, что Дмитриев попытался создать оригинальную русскую балладу, обозначив новый жанр определением «быль».
Список литературы Баллады И. И. Дмитриева: жанровые стратегии и тактики
- Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. М.: Учпедгиз, 1951. 685 с.
- Валеев Э. Н. Судьбою прерванный полет. Г. П. Каменев в русской литературе рубежа XVIII-XIX веков. Казань: Наследие, 2001. 136 с.
- Иезуитова Р. В. В. Жуковский. Эолова арфа // Поэтический строй русской лирики. М.: Наука, 1973. С. 38-52.
- Козин А. А. Жанровый Blitzweg: русская литературная баллада конца XVIII - начала XIX века в оценке отечественного литературоведения // Художественное осмысление действительности в зарубежной литературе / Отв. ред. А. А. Стрельникова. М.: Изд-во МГОУ, 2019. С. 22-29.
- Литература русского предромантизма: мировоззрение, эстетика, поэтика / Под ред. Т. В. Федосеевой. Рязань: РязГУ, 2012. 492 с.
- Луков Вл. А. Предромантизм. М.: Наука, 2006. 683 с.
- Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 256 с.
- Петров А. В . Поэты и история: Очерки русской художественной историософии: XVIII век. Магнитогорск: МаГУ, 2010. 268 с.
- Петров А. В ., Рудакова С. В. Миф о цареубийстве 11 марта 1801 года в стихах С. С. Боброва // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42. № 1. С. 86-91. DOI: 10.15393/ uchz.art.2020.437
- Пивкина Е. В . Характер развития жанра баллады в русской поэзии XVIII века // XLVI Огарёвские чтения / Отв. за вып. П. В. Сенин. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2018. Ч. 3. С. 119-123.
- Саркисян Л. С. Об одном «несостоявшемся» жанре русской лирики конца XVIII - начала XIX века (Карамзин и Державин) // Русская литература. 1990. № 4. С. 196-202.
- Шумахер А. Е. Жанр баллады в творчестве И. И. Дмитриева // Сюжетология и сюжетография. 2013. № 2. С. 124-133.
- Henderson T. F. The ballad in literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1912. 128 p.
- McDougall A. Death in the ballad. A comparative study of the sources of tragic effect in the English and French popular ballads. California: University of California, 1908. 124 p.
- Zaitseva T. B., Rudakova S. V., Slobozhankina L. R., Skvortsova M. L., Volko-va V. B., Kolesnikova O. Yu., Savelev K. N. The historiosophical pre-romantic poem "Ermak" by I. I. Dmitriev's as new stage of development of liro-epic genres in Russian poetry // Modern Journal of Language Teaching Methods. 2018. Vol. 8. № 11. P. 579-589.