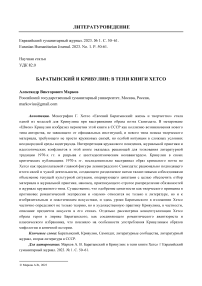Баратынский и Кривулин: в тени книги Хетсо
Автор: Марков Александр Викторович
Журнал: Евразийский гуманитарный журнал @evrazgum-journal
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
Монография Г. Хетсо «Евгений Баратынский: жизнь и творчество» стала одной из моделей для Кривулина при выстраивании образа поэта Самиздата. В метаромане «Шмон» Кривулин изобразил перипетии этой книги в СССР как коллизию возникновения нового типа авторства, не зависящего от официальных институций, и нового типа поиска творческого материала, требующего не просто кружковых связей, но особой интуиции в сложных условиях неоднородной среды андеграунда. Интерпретация кружкового поведения, журнальной практики и идеологических конфликтов в этой книге оказалась решающей для толкования литературной традиции 1970-х гг. и разрыва с шестидесятническим неоавангардом. Кривулин в своих критических публикациях 1970-х гг. последовательно выстраивал образ кризисного поэта по Хетсо как предполагаемой главной фигуры ленинградского Самиздата: рационально подводящего итоги своей и чужой деятельности, создающего разделяемое всеми талантливыми собеседниками объяснение текущей культурной ситуации, оперирующего цитатами с целью обеспечить отбор материала в журнальной практике, наконец, практикующего строгое распределение обязанностей в журнале кружкового типа. Существенно, что одобрение цитатности как творческого принципа в противовес романтической экспрессии и «зауми» относится не только к литературе, но и к изобразительным и пластическим искусствам, и здесь уроки Баратынского в изложении Хетсо частично определяют не только теорию, но и художественную практику Кривулина, в частности, описание предметов искусств в его стихах. Отдельно рассмотрена концептуализация Хетсо образа героя в лирике Баратынского, как соединяющего романтического авантюриста и классического избранника, что повлияло на особенности употребления Кривулиным образов мифологии и античной истории.
Баратынский, кривулин, самиздат, литературные сообщества, литературный журнал, вторая литература в ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/147240464
IDR: 147240464 | УДК: 82.0
Текст научной статьи Баратынский и Кривулин: в тени книги Хетсо
Метароман В. Кривулина «Шмон» посвящен тому, как появлялась сеть распространения литературной информации помимо книжной торговли, где Самиздат, Тамиздат и случайные издания, в том числе научные, и образовывали то поле, в котором часто не предназначенные к этому люди становились не просто участниками «второй культуры», прямыми или косвенными, но ее создателями: начинали писать романы, стихи или хотя бы превращать свою жизнь в произведение искусства. Можно сказать, что это роман о сети с причудливой конфигурацией, где люди могут не знать друг друга, и знакомство с запрещенной литературой чаще бывает результатом недоразумения, – но «шмон», перетряхивание, обыск, заставляет запоминать информацию и творчески воспроизводить ее, превращая разных героев метаромана в творцов новой литературы и нового образа жизни.
Поэтика этого метаромана достаточно хорошо исследована: Т. Эпстайн [Эпстайн 2018: 254] доказал, что построен он по принципу романа с ключом, но только с прямым или косвенным именованием деятелей «второй литературы», от Венедикта Ерофеева до Татьяны Гнедич. Проблемой романа было не то, чтобы персонажи были узнаны читателем, но чтобы было понятно, как именно они определяют конфигурацию «второй литературы», как именно цитатность, жанровая нюансированность речи, перевод как передача поэтических содержаний и ориентиров, определяет задачи культуры Самиздата [Житенев 2011; Марков 2021б].
Основная часть
В центре метаромана стоит эпизод с обретением книги Г. Хетсо «Евгений Баратынский: жизнь и творчество» [Хетсо 1969], объемной специальной монографии, которая переопределила и функции героев, и функции повествователя в самом романе. Безымянный поэт, в коммунальной квартире которого и происходит сам «шмон» и действие «Шмона», пишет свою биографию Баратынского, но не как исследование, а как единственный инструмент своего самосознания, как единственный способ понять свое место в истории. Горизонтом этой биографии и оказывается монография Хетсо, тем самым поиск героем своего места истории и места для истории в преображении реальности силами искусства упирается в объективный рассказ о жизни поэта, в своеобразную «литературу факта», которая отличается от того, что хочет безымянный поэт.
Поэт хочет написать беллетристику для серии «Жизнь замечательных людей» о рождении и быте Баратынского, о том, как он входит в природу и в историю, трансформируя их. По сути, он хочет превратить «недоноска» Баратынского во вполне доношенного младенца, и тем самым сам перестать быть недоноском: «и пусть пунктирная трасса свяжет первое детское впечатление – тамбовскую италию папенькиного кабинета – с мокрыми досками кричащего, поющего, смеющегося, цепляющегося за панталоны, рукава и фалды, повязанного красным шейным платком, белозубого и курчавого причала в Неаполе» [Кривулин 1992: 35] (здесь и далее сохраняется орфография всех цитируемых текстов, разрядка и подчеркивание машинописи заменяются курсивом). Очевидно, что здесь Кривулин пародирует некоторые приемы авангарда, Маяковского и Пастернака, в частности, сложную синекдоху, сбивчивые перечисления, культ детского зрения.
При этом для условного повествователя Хетсо не вовлечен в советский способ производства биографий, путем восторженного отношения к предмету, экспрессии, в которой не может быть реальных культурных цитат, но только уже известный маршрут восторга: «ни разу не становился норвежец в раздумьи у памятной доски с именами Крылова и сатирика Щедрина, не поехал на экскурсию в город Пушкин (б. царское село) смотреть дортуары лицеистов, не застыл изумлен, пред позолоченными медными пламенеющими мечами» [там же: 40]. В то время как ленинградский поэт должен писать биографию по советским правилам, но у него получается биография… самого Хетсо, некоторая воображаемая биография слависта, который может писать не по канонам советского
Н АУЧНЫЙ ЖУРНАЛ № 1, 2023 53 цензурированного производства текстов. Также он, создавая патетический текст, сталкивается с позициями советских литературоведов и их обычаями халтуры и лени – многие из которых сразу узнаются по инициалам. При этом он смог как будто написать беллетризованную биографию по всем канонам серии «ЖЗЛ», пройдя все стадии утверждения, благодаря знакомству с Татьяной Гнедич и списыванию всех нюансов жизни Баратынского с ее лагерной судьбы – но получившийся роман, в которой были вложены все личные чувства и размышления, как бы и не получился, потому что любые подробности оказывались частью уже запущенного советского производства, книга тем самым не имела новизны: «горечь любовных страниц романа явно автобиографична, хотя с другой стороны вполне подпадает и под общее выражение литературного лица, какое стало проступать еще лет десять назад, да ты совершенно прав я ведь тогда служил в книжной рекламе, и мы аннотировали много такс историко-постельной беллетристики» [там же: 51].
Так роман с ключом превращается в роман о невозможности создать что-то интереснее, чем судьба книги Хетсо, которая разными странными способами распространялась: «30 арестовано таможней при пересылке советским славистам пять почему-то дошло, из них 3 навсегда канули в спецхранах, одна книга оказалась в тарту на свободном доступе и впоследствии использована студенткой-третьекурсницей, прошедшей курс подготовки у неизвестного нам поэта-педагога, для курсовой работы по теме: «мелодика стиха баратынского», еще три экземпляра оптом закупил ленинградский скандиновед, шатаясь как-то утром, с похмелья, по Стокгольму и переживая после вчерашнего банкета с национальными песнями состояние, схожее с острой ностальгией,– по возвращении в питер раздарены друзьям, из этих 3-х: одна книга конфискована во время обыска по нехорошему делу, в протокол не внесена, забыли про нее, другая утоплена в ванной (следствие полусонного сибаритского чтения) и после неудачной попытки высушить на батарее центрального отопления передарена гошистке-парижанке, сдуру избравшей пушкинскую эпоху для магистериума, наконец, третья чудом очутилась на рабочем столе художественного жизнеописателя в разгар труда над романом из жизни баратынского, откуда явилась неизвестно, просмотре на, отложена, исчезла из поля зрения неизвестно куда» [там же: 44].
Эффект такого перечисления в том, что каковы бы ни были в нем мистификации, не только содержание книги неизвестного поэта, потерявшего книгу Хетсо, но и вообще содержание баратынсковедения, его конфигурация определялась случайными обстоятельствами распространения. Книга и создавала некоторые новые науки, например, о мелодике стиха или о социологическом анализе пушкинской эпохи, – при том, что они следовали не из индустрии науки в СССР или Франции, а из несовместимости западного и советского рынка распространения научной литературы. Советская научная литература тяготеет к беллетристике, поэтому выбывает из игры как отражающая частные страсти и установки, тогда как норвежская монография, чьи приключения эксцентричны, но не подчиняются никаким советским жанровым ожиданиям, и создает настоящую вторую культуру и, в конце концов, сам метароман «Шмон».
Материалы и методы
Текстовые параллели между книгой Хетсо и метароманом «Шмон» могли бы стать предметом отдельного исследования. Нас интересует другое: как книга Хетсо стала задавать те способы отношения к литературе и те практики поведения в литературе, в том числе и практики подготовки, распространения и издания текстов, которые потом сделали возможными и действие этого метаромана.
Это позволит ответить на главный интересующий нас вопрос: как метароман «Шмон», подводящий некоторые итоги существования «второй» или «подпольной» культуры и встраивающий ее в исторический процесс, соотносится с самим деятельным участием Кривулина в создании этой второй культуры? В каком смысле этот роман этапный, что показывает сами эти усилия и эти обстоятельства второй культуры – преодолевает ли ее Кривулин, играет ли по ее правилам в новом поле большой прозы, или, что скорее всего, делает что-то третье? После ответа на эти вопросы только и возможно осмысленное сравнение двух текстов.
Методом данного исследования будет сравнение тезисов книги Хетсо и собственного поведения Кривулина как деятеля производства текстов в Самиздате, как издателя и автора машинописных журналов. Материалом исследования стали публикации В. Кривулина в журнале «Часы», представляющие собой декларации современной поэзии и нового изобразительного искусства, отличающегося как даже от самого широкого советского канона, так и от различных попыток возродить радикальный авангард.
В этих текстах тема и форма постоянно взаимодействуют: и критика сближается с эссеистикой, литературным коллажом и публичным выступлением перед аудиторией, выстраиваясь по контрасту лирическим и публицистическим очеркам советских толстых журналов, с их ожидаемыми топосами и реакциями, и содержанием этой критики становится цитатность, неоднозначность, странность новой поэзии и нового искусства, в противовес прямолинейной бесцитатной публичности шестидесятничества как извода авангарда. Тем самым, здесь и происходит производство новой литературы, в каком-то отношении к которой и находится метароман «Шмон».
По нашему предположению, которое мы и доказываем, книга Хетсо, этот ключевой артефакт метаромана, послужила конструированию «второй культуры» в том числе и в деятельности журнала «Часы», неожиданной форме и неожиданном содержании цитируемых текстов. Тот способ собирать биографию, который был предложен в этой книге, и который весьма отличался от канона «Жизни замечательных людей» («Жизни замечательных людей для незамечательных людей», как иронически заметила О.А. Седакова в устном разговоре с автором данной статьи, характеризуя форму и пафос этой книжной серии), мог быть прямо переведен в порядок редактирования машинописного журнала и порядок представления в нем эстетических данных, утверждавший новое искусство среди читателей журнала.
Мы исходим из того [Марков 2021а; Марков 2022], что машинописный журнал представлял собой гибридную форму: он подражал привычной рубрикации любого литературного журнала, но при этом и в его производстве (перепечатке) участвовали те, кто его производил, и писал в него, и узлами его пребывания были не просто конечные потребители, а те, кто могли наладить производство дериватов. Условно, художник, имеющий мастерскую, мог написать в журнал (сам или кто-то из друзей), мог перепечатывать журнал (сам и друзья) и имел экземпляр журнала у себя, с которым знакомились те, кто приходили на квартирную выставку. Это упрощенное изложение событий, не распространяющееся на специальный Самиздат (от машинописных копий запрещенной литературы до эзотерико-мистических сборников), где был свой сложившийся рынок потребления, но схематически показывающее, как можно было наладить выпуск регулярных журналов.
Та гротескная судьба книги Хетсо, которая представлена в метаромане «Шмон», представляет собой как раз имитацию идеального функционирования Самиздата, когда рисковать никому не требуется, но издание порождает целые новые направления и в исследовании культуры, и в ее представлении. При этом сам этот способ порождения непрозрачен для повествователя метаромана, но более прозрачен должен быть для производителя машинописных журналов, который знает, что конфигурация судьбы может сложиться так же: часть экземпляров будет изъята, часто попадет по назначению, а часть достанется случайным читателям, но заинтересованным в культурной работе, – и журнал укажет им форму культурной работы. Мы далее показываем, как книга Хетсо структурирует «вторую культуру», как ее создавал и развивал Кривулин, и в этом смысле продолжает опыт работы юного Кривулина в усадьбе Баратынских Мураново, где сложились некоторые его эстетические и общественные приоритеты [Гельфонд 2013: 52].
Следует также заметить, что если в журнале «37» Кривулин обычно выступал как сторонник режимов вовлеченности, как в мистическую и философскую, так и в художественную деятельность [Хайрулин 2021: 122–123], и соответственно, понимал Баратынского только как поэта с особым типом адресации, создающем особый режим видения истории, то в журнале «Часы» он всякий раз говорил об особом упорядочении литературного и художественного процесса, о создании определенных его принципов, языка и чувства истории.
Религиозно-философский характер журнала «37» и литературно-организаторский журнала «Часы» (ср. сравнение этих журналов по словам причастных [Д’Алессандро 2020: 44]) определили совершенно различное отношение к наследию Баратынского. Для Кривулина «Часов» Баратынский – это первый современный поэт, состоящий в таком же отношении к романтизму, как создаваемая им новая поэзия – к авангарду и советской поэзии, даже не официозной. Хотя постромантизм Баратынского подразумевается и концепцией «37», и Кривулин везде говорил об отходе Баратынского от прямой патетичности к углубленному неоднозначному размышлению; тем не менее только в журнале «Часы» такое понимание постромантизма должно структурировать литературный процесс и машинописное литературное производство.
В ключевой статье «Двадцать лет новейшей русской поэзии» [Кривулин 1979б] Кривулин прямо говорил о задаче новой поэзии как задаче «свертки исторического опыта в личное слово» [там же: 242]. При этом он признает, что поэзия ленинградского Самиздата уже «заговорила языком, неслыханном прежде в России» [там же: 241]. Это он объясняет тремя факторами:
-
1) отказом от прямого продолжения авангарда и от шестидесятнической обращенности на внешнего читателя, ради создания «человекотекста», некоторого магического слова, выводящего поэзию «из сферы социологического» [там же: 243],
-
2) быстрое преодоление авангарда и акмеизма, на пути размывания границ между мифологическим и бытовым, что показал Иосиф Бродский [там же: 247],
-
3) наконец, стабилизация как мистической, так и концептуалистско-абсурдистской линии в новейшей поэзии, благодаря чему звучащее агитирование читателя заменяется конструированием собственной позиции поэта, так что этой подпольной поэзии начинают даже подражать некоторые официальные поэты, начиная с А. Вознесенского. « “Образ поэта” всё более отчуждается от стиховой ткани, понятие «текст» направлено именно на противопоставление автора и его слова. Стихи, становясь текстами, делаются всё более без (вне? над?) личными. Даже в тех случаях, когда личность поэта является центральным и единственным героем его поэзии (...)» [там же: 258].
Таким образом, и прямой романтизм, и прямая заумь одинаково не выдерживают проверку этим отказом от социологии в пользу размывания сначала тематических границ, а потом и языковых, включения в поэтический язык мистических и низовых пластов, в противовес романтической и заумной стерильности. Еще подробнее о цитировании текста как преодолении романтического настроения Кривулин писал в другой статье того же года: «Цитирование сейчас есть любование чужим. В 60-е гг. мы не любовались, тогда мы воспринимали “чужое” как активный, необходимый к потреблению материал» [Кривулин 1979а: 227]. Тем самым, преодоление романтического настроения оказывается и принципом любования чужим, так что это чужое, если становится некоторым цельным явлением, как в живописи или в виде монографии, позволяет создавать некоторые новые режимы обращения и к бытовой, и к мистической действительности.
Но именно так Хетсо изображает разрыв Баратынского с «индивидуальной поэзией романтиков». Хетсо применяет специфический биографический метод: для него перемены в биографии оказываются поводом для Баратынского не просто изменить поэтику, но декларировать свое отношение к господствующей поэтике. Так, возвращение в Москву в 1832 году понимается как одновременно организация некоторой среды общения, с неизбежными напряжениями и конфликтами, и воздержание от творчества ради осмысления своей прежней поэтики и текущей литературной ситуации: «В эти годы Баратынский написал мало нового. Он “возился с старым”, исправлял ранее написанное, намереваясь выпустить новое собрание своих сочинений. “Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой еще не созрело”. (...) Показательно, что Вяземский собирался взять замечание Баратынского о судьбе “поэзии индивидуальной” в качестве эпиграфа к собранию своих стихотворений» [Хетсо 1969: 167–168]. То есть критика текущей литературной ситуации одновременно может быть полностью подхвачена союзниками, что и было существенно для Кривулина «Часов», – и что в романе «Шмон» выражено в идее освоения каждым читателем всей книги Хетсо, а не отдельных ее эпизодов, так что книга оказывается соразмерна каждой новой дисциплине. Она как раз в отличие от книги «Жизни замечательных людей» используется не как эмоциональный материал, не как романтическое восклицание, но как написанное нормализированное слово, которое звучит только в виде вдохновленных им дисциплин.
Но также Хетсо разбирает вопрос о том, завидовал ли Баратынский Пушкину, и эта тема зависти получает большое развитие в романе «Шмон», что требует уже многочисленных текстовых сопоставлений в другой работе. Но суть его концепции в том, что Баратынский не смог до конца подружиться с московскими любомудрами , Вяземским и Киреевским, хотя считал их настоящим университетом дружбы , идеальным дружеским кругом [там же: 169–170]. Тем самым он размывал те самые границы между мифологическим и бытовым, то есть видел в бытовых привычках некоторые общие принципы социальности, но именно поэтому до конца не остался в их кругу – он всегда подозревал чью-то злонамеренность и зависть. Отъезд Бродского и выпадение Баратынского из круга славянофилов оказываются похожи: кто и является единственным поэтом, трактующим их социальность как новую, как дружеский круг, тот выпал из прежней социальности в метафизическую поэзию и потому никогда не примирится с любой социальностью.
Здесь существенно обратить внимание на созданную Кривулиным под явным влиянием Хетсо параллель между Киреевским и Александром Блоком [Кривулин 1977: 247] как немецки мыслящими славянофилами, чьи построения в конце концов упираются в типологию культур вроде шпенглеровской – это и осуществляет метароман «Шмон», в котором написание биографии в романтизированно-громогласном стиле «Жизни замечательных людей» оказывается лишь подтверждением каких-то штампов о русском характере, например, о беспечности русского человека, каковые не имеют никакого отношения к действительным задачам русской культуры. Замечательно, что это эссе о Блоке и других полно намеков, а Хетсо пишет, что Баратынский, боясь перлюстрации писем, поддерживал опального Киреевского намеками [Хетсо 1969: 189–190], откуда и тема опасности Самиздата в «Шмоне», когда досмотру могут подвергнуться не только доказательства запретной деятельности, но и намеки на нее.
Но дальше в книге Хетсо возникает интерпретация как раз нормализации его поэзии, совпавшей с невозможностью говорить с новым поколением любомудров. «В творчестве Баратынского содержатся намеки на то, что поэт по мере отхода от славянофильской среды, старался установить хорошие отношения с представителями молодого поколения. «Летел душой я к новым племенам», – говорит он в стихотворении На посев леса. Но в том же стихотворении поэт восклицает: «Ответа нет!». Найти отклик на свои мысли у молодого поколения ему не удалось. Надо думать, что непреодолимой помехой для взаимопонимания оказалась гегельянская философия» [там же: 200], то есть философия, обращавшаяся и к фольклорному ресурсу, и к созданию из клише мысли специфической диалектики. Но именно так же Кривулин описывает границы новой поэзии, что это поэзия текста [Кривулин 1979б: 252], в отличие от поэзии звучащего слова, что этот текст пытается установить хорошие отношения с другими, но поневоле оказывается клишированным хотя бы в чем-то и потому не может до конца найти ответ.
По сути, Кривулин и видит миссию журнала «Часы», чтобы создать полную картину нового поэтического ландшафта, преодолеть случайную диалектику жизни андеграунда, и тем самым отделить фольклорные элементы и клише от действительных новаций работы с текстом и показать потому оригинальность всей этой поэзии и создать нормальные отношения поэтов друг с другом и читателем [там же: 256]. В романе «Шмон» это осуществляется, но в виде принципиального пародирования этих элементов и клише.
Влияние книги Хетсо можно увидеть и в других манифестах Кривулина. Так, он в своем воображаемом итальянском путешествии изображает Гоголя как человека неудачи именно потому, что он попадает в среду итальянцев, где все – потенциальные литераторы [Кривулин 1976]. «Чаще – об Италии, что она как бы литературная Россия, не газета, а без кавычек Литературная Россия» [там же: 61], тогда как любой российский писатель слишком привык к официальному производству и с трудом размыкает кавычки. Этот эпизод с итальянцами-литераторами нашел продолжение и в метаромане Кривулина [Кривулин 1990: 49], где «итальянец-поэт» означает позорное положение поэта, в сравнении с деловыми людьми. Что ни один экземпляр книги Хетсо, по Кривулину, не попал в Англию, подтверждает жалобы «Последнего поэта» Баратынского на деловой мир, отвергший последнего поэта, а в данном случае – один из экземпляров книги о последнем поэте. Тем самым Кривулин осмысляет штучность каждого экземпляра Самиздата как способ сказать, что где-то последний поэт отвергнут не будет.
Но интереснее всего, что эта трактовка Гоголя восходит к Хетсо, для которого как раз Гоголь оказался испытанием для мнительности Баратынского: Гоголь упрекнул Баратынского в скороспелой проповеди пессимизма [Хетсо 1969: 195], и Хетсо становится как бы на сторону Баратынского, который увидит в этом утверждении несостоятельности его как собеседника людского – ну кому нужен пессимизм? «То, что бывшие друзья стали относиться к нему холодно и равнодушно, подверждается самим Баратынским» [там же]. И Баратынский начинает с подозрением относиться ко всем: «Так, приехав в Петербург в феврале 1840 года, поэт сомневается в искренности оказанного ему теплого приема» [там же: 197].
Так что воображаемая сцена у Кривулина в процитированном тексте, что все итальянцы, попав в холодную Россию, занимались бы только письмом, как раз описывают ситуацию такого «холодного приема» как позволяющего противопоставить литераторов и каноническое литературное производство и высокую неудачу авторов Самиздата. Как раз Гоголь, соединяющий мистическое и бытовое, и в конце концов начинающий судить Баратынского за пессимизм, как бы предвосхищает новое распределение ролей, где Гоголь-Кривулин (О. Седакова удачно сравнила Кривулина с Гоголем по многим параметрам
[Седакова 2001: 704–705]) судит Бродского-Баратынского (о параллели Баратынского и Бродского существует уже целая полка литературы) за его пессимизм и за то, что преодолев авангард и акмеизм, он в чем-то остался романтиком, со своей жизнью замечательного человека, не сконструировал собственный образ поэта из материала текста.
Заключение
-
О. Седакова [Седакова 2001: 698] увидела в исторических стихах Кривулина отказ от прежнего образа мудреца, пророка и публичного оратора, при всей ораторской просодии Кривулина, и выдвижение маргинального субъекта, такого как Кассандра, в зеркале видящего текущую катастрофу. Тем самым зеркало оказывается текстом, непосредственно соотносящимся с настоящим, документирующим и «любование чужим», и то самое стабилизирующее конструирование настоящего, открытого катастрофе.
Но такое искусственное появление зеркала как вписывающего героя в текст в противовес и интригующей среде и романтическому пафосу избранничества, Хетсо видит в стихотворении Баратынского об Алкивиаде: «В центре внимания и этого стихотворения находится противоречие между избранником-одиночкой и издевающейся над ним средой. Но здесь герой в силу своей веры поднимается выше среды: его спасает спокойное и сильное убеждение в конечном торжестве, когда он, сидя перед зеркалом, вопрошает себя о том, подойдет ли ему лавровый венок» [Хетсо 1969: 479]. Тем самым открытым катастрофе оказывается Алкивиад, и собственно, вести каталог открытых катастрофе поэтов и хотел Кривулин в «Часах», в отличие от журнала «37», который должен был дать инструкции по переживанию катастрофы уже изнутри нее.
В метаромане «Шмон» это избранничество и было спародировано тем, что каждый герой вдруг оказывается наедине с книгой как зеркалом своей судьбы, хотя эта книга досталась в связи с перипетиями как советского, так и подпольного распространения книг и заказов на книги. Вместо каталога перед нами история таких зеркал, дополненная судьбой некоей советской юродивой Вознесенской, такого Алкивиада, существующего только в виде репрезентаций, которые ей к лицу (грамота, портрет на доске почета); но не в роскоши, а в аскезе этих текстов, учредительных текстов о раннесоветских героях и скупых способах воспроизвести героя на фото или в надписи грамоты.
Вознесенская (не случайно созвучие с цитировавшимся тезисом Кривулина, что Вознесенский неудачно подражает поэтам «второй литературы», когда они вышли к нормализации) как раз отличается спокойным и сильным убеждением, и поднимается выше среды просто потому, что реализовала свои убеждения – именно она показывает, что каталог создать не удалось, потому что советский человек достиг своего советского бессмертия в виде некоего героического текста или в виде новой случайной комбинации атомов (со ссылкой на мечту Сельвинского) [Кривулин 1990: 61]. Метароман «Шмон» оказывается единственным способом этот советский текст бессмертия сделать частью обсуждения бессмертия уже во «второй культуре».
Но также Хетсо показал и модель взаимодействия в подготовке журнала. В его изложении «Современник» Плетнева оказался примером кружкового журнала, пытающегося создать новую, постромантическую литературу. «Но работа с журналом становилась все труднее и труднее: у Плетнева было мало сотрудников, и число подписчиков с каждым годом уменьшалось. Единственное, что заставляло его продолжать издание журнала, было желание «спасти от смерти предприятие, начатое Пушкиным, да отстаивать против глупцов и торгашей литературных святые истины высокого искусства» Такая программа должна была прийтись по душе Баратынскому, аристократу духа и другу Пушкина. Поэтому легко понять, почему он обещал Плетневу свою помощь в издании журнала по возвращении из-за границы» [Хетсо 1969: 230].
Мало сотрудников, мало подписчиков, и отсутствие спонсоров, в отличие от символистских и футуристических журналов, тем более, советских официальных журналов. Тем самым введение книги Хетсо в метароман оказывается и способом сказать, что предприятие новой литературы спасено от смерти, как только кто-то начнет искренне помогать ему, например, сможет способствовать распространению метаромана.
Здесь Кривулин уже отождествляет с Баратынским внимательного читателя второй литературы, а себя скорее с Плетневым; и книга Хетсо оказывается инструкцией по поддержанию журнала на плаву благодаря правильному подбору авторов-образцов, тех самых элементов каталога нормализации, а метароман – способом показать, что нормализация не сводится к отдельным чертам поэтики, но требует своих предельных состояний. Где религиозный поиск бессмертия дополняет текст, там юродство должно дополнить этот поиск, без этого современный текст не получится, останется только беллетризованная история Алкивиада или Баратынского, но не концепция представленности современности самой вечности.
Список литературы Баратынский и Кривулин: в тени книги Хетсо
- Гельфонд М.М. «Я читал Боратынского»: Виктор Кривулин // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2013. № 1-2. С. 51-55.
- Д'Алессандро Р. Ольга Седакова и ленинградский самиздат 70-х годов // Acta samizdatica / Записки о самиздате: Альманах / Ред. М.Я. Шейнкер. Выпуск 5. М., 2020. С. 37-46.
- Житенёв А.А. «Сельва сельваджо» «многослойного разговора»: несколько замечаний о романе В. Кривулина «Шмон» // Полилог. 2011. № 4. С. 32-37.
- Кривулин В.Б. Из итальянских писем // Часы. 1976. № 4. С. 52-63.
- Кривулин В.Б. Полдня длиной в одиннадцать строк // Часы. 1977. № 11. С. 232-255.
- Кривулин В.Б. Пять лет культурного движения. Связь движения художников с движением поэтов // Часы. 1979а. № 21. С. 221-229.
- Кривулин В.Б. Двадцать лет новейшей русской поэзии (предварительные заметки) // Часы. 1979б. № 22. С. 240-263.
- Кривулин В.Б. Шмон // Вестник новой литературы. 1990. № 2. С. 5-64.
- Марков А.В. Смыслы культуры и книги. От «брака по расчету» до признаков «первой любви» // Literature. 2021а. Т. 63. № 2. С. 204-225.
- Марков А.В. Цветное кино и институты самиздата: об одном эпизоде метаромана «Шмон» В. Кривулина // Labyrinth. Теории и практики культуры. 20216. № 1. С. 5-12.
- Марков А.В. Формирование философского канона в религиозно-идеалистическом самиздате // Философия. Журнал высшей школы экономики. 2022. Т. 6. № 1. С. 89-116.
- Седакова О.А. Очерки другой поэзии. Очерк первый: Виктор Кривулин // Седакова О.А. Проза. М.: NFQ; Ту Принт, 2001. С. 684-705.
- Хайрулин Т.П. Литературная стратегия В. Кривулина 1970-х - нач. 1980-х гг.: дисс. ... к. филол. н. СПб., 2011. 207 с.
- Хетсо Г. Евгений Баратынский: жизнь и творчество [Kjetsaa Geir. Evgenij Baratynskij. Liv og diktning]. Oslo, 1969. 740 с.
- Эпстайн Т. Тайм-аут: тупики и выходы в «Шмоне» Виктора Кривулина // Новое литературное обозрение. 2018. № 4. С. 250-257.