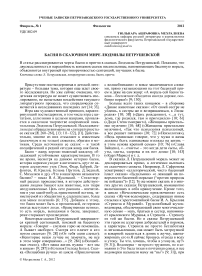Басня в сказочном мире Людмилы Петрушевской
Автор: Мехралиева Гюльнара Ашрафовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (122), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются черты басни и притчи в сказках Людмилы Петрушевской. Показано, что двусмысленность и пародийность концовок сказок писательницы, напоминающих басенную мораль, объясняются внутренней противоречивостью сентенций, звучащих в басне.
Л. петрушевская, литературная сказка, басня, притча
Короткий адрес: https://sciup.org/14750082
IDR: 14750082 | УДК: 882.09
Текст научной статьи Басня в сказочном мире Людмилы Петрушевской
Присутствие постмодернизма в детской литературе – большая тема, которая еще ждет своего исследователя. Но уже сейчас очевидно, что детская литература не может существовать изолированно, не испытывая воздействия текущего литературного процесса, что спорадически отмечается в исследованиях последних лет [14; 33].
Игра как художественный принцип, характеризующий постмодернизм, в том числе игра с цитатами, аллюзиями и целыми жанрами, проявляется в сказочном творчестве современной писательницы Людмилы Петрушевской. Исследователи не раз обращали внимание на «литературность» ее сказок [8; 260–261], [13; 111–122], [11]. Действительно, многие из них отсылают к известным (сказочным и не только) сюжетам, образам и мотивам. Среди источников ее сказок – и такой специфический и редкий сегодня жанр, как басня.
Басня – жанр, хорошо знакомый каждому, обладающий устойчивыми характеристиками. В то же время, несмотря на давнюю историю басни, которая корнями уходит в античность, круг ее авторов достаточно узок (Эзоп, Федр, Бабрий, Лафонтен, И. Крылов, Козьма Прутков, Д. Бедный, С. Михалков и др.). «Что в наше время называется баснею? – писал В. А. Жуковский. – Стихотворный рассказ происшествия, в котором действующими лицами бывают или животные, или твари неодушевленные. Цель сего рассказа – впечатление в уме какой-нибудь нравственной истины, заимствуемой из общежития и, следовательно, более или менее полезной» [6; 375]. Добавим к этому, что басня может быть и прозаической, ее героями иногда выступают люди. «Нравственная истина», то есть мораль, выводимая в басне, завершает, реже открывает произведение.
Некоторые сказки Петрушевской завершаются краткой сентенцией, похожей на басенную мораль: «Говорят – слезами горю не поможешь. А бывает наоборот. Смотря кто плачет и кто потом смеется» [9; 28] («От тебя одни слезы»); «Некоторые вещи лучше не замечать, не все в этом мире совершенно…» [9; 284] («Волшебные очки»), «Вот наша жизнь нужна – вот мы и живем» [9; 287] («Котенок Господа Бога»). Сказка «Волшебная ручка» из цикла «Приключения с волшебниками» и вовсе заканчивается словами, прямо указывающими на этот басенный прием и даже на сам жанр: «А мораль сей басни такова – бесплатное обходится иногда дороже, особенно ворам!» [9; 130].
Больше всего таких концовок – в сборнике «Дикие животные сказки»: «От своей сестре не уйдешь, к сестры же и возвращаешься, к Лиды: родня» [10; 58] («День рождения»), «…а тут, дома, где родился, там и пригодился» [10; 61] («Дядя Степа эмигрант»), «Женщины пристальнее мужчин» [10; 68] («Женщины пристальнее мужчин»), «Так что психология психологией, а все решает питание» [10; 72] («Психология»), «Ведь правильно говорят, что у мужа и жены должны быть одинаковые взгляды на жизнь – в этом основа крепкой семьи» [10; 76] («Слава Зайцев»), «…счастье – это когда дети сыты, обуты, одеты, здоровы и их нет дома» [10; 143] («Карл Маркс») и т. д.
В сказках Л. Петрушевской мораль может не декларироваться прямо, а логически вытекать из сказочного сюжета. Например, Л. Сафронова усматривает «аллегорический, чисто басенный пласт сказки» «Будильник» «с лежащей на поверхности басенной моралью (“против природы не пойдешь”)» [12]. То же можно сказать и о многих других сказках Петрушевской, имманентно включающих в себя нравоучение. Кроме того, в цикле «Нечеловеческие приключения» есть сказка «Жучок-водомерка», содержащая явные отсылки к хрестоматийной басне И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей». Трудолюбивый жучок-водомерка, обеспечивающий свою многочисленную семью – мать, братьев и сестер, напоминает крыловского Муравья, а Стрекоза – Стрекозу из той же басни. Но в сказке Петрушевской эти герои не аллегории добродетелей и пороков, а характеры. Стрекоза не просто беззаботная и легкомысленная, она может быть хитроумной и коварной: вселиться в домик к жучку, шантажировать его («Я сейчас брошусь отсюда в воду и утону. Ты что, хочешь, чтобы я утонула, ну?» [9; 31]). Водомерка – не просто труженик, но и семьянин («Это была тихая и почтенная семья, и все водомерки называли маму на “вы”» [9; 31]), при этом он настолько робок, что не может выгнать незваную гостью.
Сказка «Жучок-водомерка» как бы продолжает басенный сюжет, отталкиваясь от ситуации, противоположной той, что басня провозглашает нормальной: труженик остается бездомным и подвергается опасности, а бездельник пользуется всеми жизненными благами. Это произведение задает вопрос (что будет, если Стрекоза, олицетворяющая лень, получит желанное, но незаслуженное?) и недвусмысленно отвечает на него. Стрекозе новая жизнь представляется так: «Вечерами бы к нам приходила прекрасная компания музыкантов. <…> Тихая музыка над вечерней водой среди звезд тумана и аромата цветущего луга» [9; 30], но ей приходится уйти из занятого домика, потому что и там надо работать: «Пауки поселялись в любом пустом углу молниеносно и заплетали все так, что младшие дети увязали в паутине по грудь. Водомерка воевал с пауками. Это была опасная и трудная война» [9; 32]. В этой войне Стрекозе приходится уступить и уйти; уходя, она говорит: «Лучше ночевать на воздухе, чем с пауками» [9; 34].
Басню Крылова «Стрекоза и Муравей» отличает двойственность и сомнительность выводимой морали. Действительно, можно ли сочувствовать жестокому, хотя и справедливому заключению Муравья: «Так поди же, попляши!»? Л. С. Выготский отмечает, что это остро чувствуют дети, которые жалеют Стрекозу [3; 120–121]. У Петрушевской благодаря разработке характеров героев наказание Стрекозы соразмерно ее преступлению.
«Дикие животные сказки» близки к басне и тем, что их герои – животные, как это чаще всего бывает в басне. В этом, по мысли М. Л. Гаспарова, проявляется «обобщенность басенного повествования»: «…пример, в котором действуют лишенные человеческой индивидуальности животные, естественно оказывается применим ко всему роду человеческому» [4; 8]. То, что сказки посвящены людям, Л. Петрушевская подчеркивает с помощью внетекстового средства – иллюстраций, выполненных ею специально для этих сказок. Так, ежик Витек изображается молодым мужчиной в полосатой майке и с прической «ежик», козел Толик – мужчиной в шляпе и с козлиной бородкой. (Иногда, впрочем, в этих портретах проглядывают зооморфные черты: например, у клеща тети Оксаны на рисунке шесть рук.)
Герои «Диких животных сказок» обладают не только всевозможными слабостями и пороками людей, но и их интересами, ценностями и желаниями. Может показаться, что, как и персонажей басен, их отличает одна гипертрофированная черта, которая полностью исчерпывает их характер. Червь Феофан, не замечая происходящего вокруг, предается философствованию, а карп дядя Сережа, который имел «одну в жизни цель, одно заветное желание» [10; 93], мечтает съесть Феофана («Нирвана»). Но другие сказки, в которых действуют эти герои, открывают их с но- вых сторон. Оба они хотят прославиться и принимают участие в рыболовных соревнованиях («Жажда славы»). Карп дядя Сережа играет в теннис («Уимблдон»), «а после того как главная цель и мечта его жизни, червь Феофан, не пошел на отношения, все интересы бедного карпа ограничились гастрономом на углу и поисками новых знаков отличия» [10; 96], которые он носил на себе. «Дикие животные сказки» изобилуют такими примерами, что сближает их с фольклорными сказками о животных, поскольку «герои собственно животных сказок наделены двойственными признаками – человеческими и животными» [7; 82].
Слияние животного и человеческого, биологического и социального можно наблюдать и у героев «Диких животных сказок». Прежде всего это проявляется в том, что все герои цикла, от пня с опятами Смирнова до младшего лейтенанта милиционера Володи, обладают именами (как и во многих случаях герои животных сказок, в отличие от героев басен). Кроме того, им свойственны исключительно человеческие устремления и поступки – организация любительского театра («Сила театра», «Сила искусства»), съемки в кино («Роль»), пение в хоре («Репетиция хора», «Маккартни», «Кукувечка»), участие в спортивных соревнованиях («Жажда славы», «Уимблдон») и т. п. Но даже самые далекие от животного мира действия, примеров которых можно привести множество, неизменно соседствуют с проявлениями животной сущности: «Как-то раз баран Валентин не вытерпел и все-таки надел колготки (“Ливайс”, новые, сам распечатал), но не до конца, концы болтались. <…> Утром на надетой части колготок, а именно между рогами, обозначились стрелки и пунктиры, а в одном месте в образовавшуюся лакуну выпала наружу шерсть» («Вялые уши») [10; 131].
Баран, желающий быть модным, – лишь один из смешных примеров соединения несоединимого. Этот прием лежит в основе построения всех образов и ситуаций «Диких животных сказок» и также проистекает из канонов животной сказки, в которой «бытовая насыщенность… помноженная на откровенное несоответствие поступков персонажей тому, как ведут себя реальные животные, является источником комического и одновременно позволяет сказке уйти от аллегорической дидактики» [7; 85].
От басен сказки цикла «Дикие животные сказки» отличает и то, что нравоучение, завершающее произведение, приобретает у Петрушевской пародийное, ироничное звучание. Авторскую иронию, возникающую уже на уровне заглавия, отмечает Ю. Н. Серго: «Перестановка слов (“животные сказки” вместо “сказки о животных”) и добавление слова “дикие” демонстрируют, с одной стороны, разрыв связи с культурной традицией, с другой стороны – тяготение к ее воспроизведению, но не в высоком смысле, а по типу массового сознания» [13; 111]. Ирония, направленная на знаки высокой культуры, пронизывает собой весь этот сказочный цикл, выражаясь в том числе в пародировании и даже деструкции басенной морали.
Например, в сказке «Сила искусства» повествуется о спектакле театра зверей «Чайка». Мораль, выведенная в ее конце («Сила искусства такова, что не все ее выносят» [10; 206]), является следствием описания не спектакля (которому и посвящено произведение), а банкета, в результате которого испуганный улитка Герасим пополз к пруду, а лягушку Самсона на спине увезла в болото жена Женечка. В сказке «Таракан-фис», заканчивающейся моралью «юношеские порывы не всегда совпадают с реальностью» [10; 159], порывы героя заключаются в том, чтобы освободиться из-под семейного гнета и уйти жить к образованной девушке, а несовпадение порывов с реальностью вызвано всего лишь тем, что «подметать все равно никто не подметал» [10; 159].
С другой стороны, необходимо отметить, что пародийность «басенных концовок» в сказках Л. Петрушевской вырастает из той внутренней противоречивости, которую заметил Л. С. Выготский в поэтической басне Крылова и Лафонтена: «…мораль превращается у этих авторов в один из поэтических приемов… Она играет большей частью роль или шуточного введения, или интермедии, или концовки, или чаще так называемой литературной маски. <…> Баснописец никогда не говорит от своего имени, а всегда от имени назидательного и морализующего, поучающего старика, и часто баснописец совершенно откровенно обнажает этот прием и как бы играет им» [3; 109].
Жанру басни близка притча. Последняя «отличается тяготением к глубинной “премудрости” религиозного или моралистического порядка», она «в своих модификациях есть универсальное явление мирового фольклорного и литературного творчества» [1]. Событиям, происходящим в притче, придается всеобщий смысл, а ее содержание более важное и глубокое, чем содержание басни [5; 197]. По словам Э. М. Береговской, «в основе притчи лежат вечные нравственные истины, тезисы, которые представляют фунда- мент человеческой морали…» [2; 40]. Формальным отличием этих двух близких жанров является то, что «у басни мораль составляет неотъемлемую финальную или инициальную часть текста, в притче же истолкование факультативно…» [2; 41]. Литературные произведения могут включать притчи в свой состав (достаточно вспомнить, например, притчу о луковке в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского), черты этого жанра можно наблюдать в произведениях многих авторов – Г. Мелвилла, У. Фолкнера, К. Воннегута, Э. Хемингуэя, А. Камю, Г. Гарсия Маркеса, Ч. Айтматова, В . Быкова, В . Маканина, Ф. Искандера. В этом случае правомерно говорить о притчево-сти или притчеобразности произведений указанных авторов.
Влиянием жанра притчи отмечены и некоторые сказки Людмилы Петрушевской: «Сказка о часах», «Отец», «Девушка-Нос», «За стеной». Рассмотрим в качестве примера сказку «Отец». Главный герой этой сказки не имеет имени: «Жил на свете отец, который никак не мог найти своих детей» [9; 159]. Впрочем, детей отец не терял, а только чувствовал, что они где-то должны быть. Благодаря совету волшебницы он находит ребенка в лесной избушке, где встречает женщину, которая тоже нашла своего ребенка. По дороге отец и мать обо всем забыли. «Они помнили только, что была какая-то очень трудная ночь, долгая дорога, тяжелые времена одиночества, но теперь у них родился ребенок, и они нашли то, что искали» [9; 165]. Здесь все – от места действия до отсутствия имен героев – предельно обобщено и символично, как того требует притча, кроме того, сказка содержит не простую житейскую мудрость, как басня, а приобретает общечеловеческий смысл.
В сказках Людмилы Петрушевской элементы басни и притчи органично входят в сказочный жанр в виде нравоучительных финалов-выводов. В цикле «Дикие животные сказки» подобные концовки трансформируются, утрачивая нравоучительность, являющуюся неотъемлемым свойством басни, и пародируют стремление не столько басни, сколько литературной сказки быть «учебником жизни».
Список литературы Басня в сказочном мире Людмилы Петрушевской
- Аверинцев С. С. Притча//Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М.: Сов. энциклопедия, 1971. Т. 6. Стлб. 20.
- Береговская Э. М. Поэтика современной притчи//Филологические науки. 2007. № 1. С. 40-49.
- Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Педагогика, 1987. 345 с.
- Гаспаров М. Л. Античная литературная басня. М.: Наука, 1971. 280 с.
- Давыдова Т., Пронин В. Басня и притча//Литературная учеба. 2003. № 3. С. 195-197.
- Жуковский В. А. О басне и баснях Крылова//Жуковский В. А. Соч.: В 13 т. Т. 3. М.: ГИХЛ, 1980.
- Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. М.: Наука, 1987. 272 с.
- Маркова Т. Н. Формотворческие тенденции в прозе конца XX века: Дис.... д-ра филол. наук. Челябинск, 2005.
- Петрушевская Л. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. Харьков: Фолио; М.: ТКО АСТ, 1996. 256 с.
- Петрушевская Л. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. Харьков: Фолио; М.: ТКО АСТ, 1996. 352 с.
- Прохорова Т. Г., Сорокина Т. В. Гофмановские реминисценции в «кукольном романе» Л. Петрушевской «Маленькая волшебница»//Поэтическое перешагивание границ. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2002. С. 139-146.
- Сафронова Л. Проблема автора и героя и жанр литературной сказки (на материале сказки Л. Петрушевской «Жил-был будильник») [ Электронный ресурс]. Режим доступа: http://newwave.at.ua/publ/1-1-0-47
- Серго Ю. Н. Поэтика прозы Л. Петрушевской. Ижевск: Удмуртский гос. ун-т, 2009. 158 с.
- McNulty M. H. Postmodernism in children’s books//Postscript. 2004. Vol. XXI. P. 81-96.