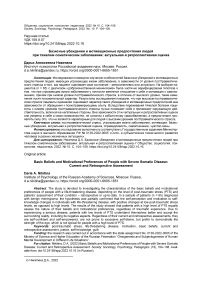Базисные убеждения и мотивационные предпочтения людей при тяжелом соматическом заболевании: актуальная и ретроспективная оценка
Автор: Никитина Дарья Алексеевна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 10, 2022 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено изучению особенностей базисных убеждений и мотивационных предпочтений людей, имеющих угрожающее жизни заболевание, в зависимости от уровня посттравматиче-ского стресса и того, как пациент оценивает свое состояние - ретроспективно или актуально. На выборке пациентов (n = 65) с диагнозом «доброкачественная менингиома» была частично верифицирована гипотеза о том, что при угрожающем жизни заболевании у личности меняется отношение к себе и мотивация к самопознанию, причем при низком уровне посттравматического стресса, в отличие от высокого уровня, такие изменения носят положительный характер. Результаты исследования показали, что при высоком посттравматиче-ском стрессе пациенты одинаково оценивают характер своих убеждений и мотивационных предпочтений вне зависимости от обращения к психотравмирующему опыту. Вследствие переживания тяжелой болезни пациенты с низким уровнем посттравматического стресса лучше понимают себя и принимают окружающую действительность, включая ее негативные стороны. Вне зависимости от их актуальных и ретроспективных оценок они уверены в себе и своих возможностях, не склонны к избыточному самообвинению, а предпочитают проявлять силу Эго, что не является характерным для людей с высоким уровнем посттравматического стресса.
Посттравматический стресс, угрожающее жизни заболевание, мотивация, базисные убеждения, актуальная и ретроспективная оценка, справедливость, самопознание, чувство вины
Короткий адрес: https://sciup.org/149140875
IDR: 149140875 | УДК: 159.9.07 | DOI: 10.24158/spp.2022.10.16
Текст научной статьи Базисные убеждения и мотивационные предпочтения людей при тяжелом соматическом заболевании: актуальная и ретроспективная оценка
Институт психологии Российской академии наук, Москва, Россия, ,
Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, ,
Введение . Изучение феноменологии посттравматического стресса (ПТС) выступает одним из центральных разделов не только прикладной, но и фундаментальной психологии. Создание здоровьесберегающих технологий, оказание качественной психологической поддержки пострадавшим людям вследствие переживания ими влияния высокоинтенсивных стрессоров не теряют своей актуальности и в настоящие дни, а скорее наоборот, становятся с каждым годом более востребованными. В этой связи перед учеными все чаще встает задача поиска наиболее функциональных способов решения возникающих проблем, которые бы наиболее точно отвечали вызовам современности. Одной из первостепенных междисциплинарных проблем, требующих более подробного изучения, остается исследование угрожающего жизни заболевания в качестве стрессора высокого уровня интенсивности, вызывающего у пациента тяжелые психологические последствия – посттравматический стресс и его симптомы.
В настоящее время в рамках интегративного подхода Н.В. Тарабриной к исследованию посттравматического стресса психологи выделяют значимость приверженности к системности, комплексности во взгляде на данную проблему. Все чаще в научных работах прослеживается такая стратегия в анализе, при которой наряду с углубленным изучением контекстуальных аспектов самой стрессовой ситуации (включая ее особенности, стрессор и его специфику, социальные ориентиры личности) человеку как субъекту своего жизненного пути отводится ключевая роль (Харламенкова и др., 2021).
Известно, что, переживая травматический опыт, личность может испытывать состояние дезинтеграции (Тарабрина, 2001). Существовавшая ранее уверенность в собственной защищенности и неуязвимости ставится под сомнение и выступает для индивида больше иллюзией, чем реальностью, а при угрожающем жизни заболевании для пациента затруднительным в том числе оказывается принятие себя.
Наряду с этим есть данные, свидетельствующие о том, что, несмотря на все трудности переживания экстремального жизненного события, субъект продолжает стремиться к психологической безопасности, поиску средств, позволяющих выйти за пределы психотравмирующего опыта. В свою очередь, эффективность реализации такого стремления для каждого человека будет индивидуальной. Можно допустить, что приобрести необходимую опору в постоянно меняющейся реальности человеку позволяет его устоявшаяся субъективная картина мира (базисные убеждения личности). Однако не следует полагать, что результативность совладания с травмой напрямую связана с восстановлением «дотравматической» картины мира. Наиболее важным оказывается регенерация ее целостности при устранении противоречий, что не определяется возвращением к старому, а включает необходимость принятия человеком нового представления о мире и о своей роли в нем (Падун, Котельникова, 2008).
Полноценное разрешение противоречий в картине мира человека при столкновении с ненормативным кризисом тесно сопряжено с активностью субъекта. Конструктивное проявление активности включает экзистенциальную мотивацию личности и стремление человека к самопознанию, которые соотносятся в некоторых исследованиях с показателями проявления феномена посттравматического роста (Русина, 2022). Для людей, имеющих тяжелое заболевание, не менее весомой составляющей успешного совладания с чрезвычайной жизненной ситуацией выступает вера в себя, свою ценность, которая помогает пациенту увидеть спектр вариантов преодоления трудностей, обрести новые жизненные смыслы (Катыкова, Попова, Ланберг, 2022). Немаловажной основой для нахождения внутреннего психологического баланса также может выступать умение человека совладать с такими чувствами, как обида и вина. Как отмечают некоторые исследователи, способность к прощению помогает развитию аутентичности субъекта и, как следствие, обретению психологического благополучия, поддержанию позитивного функционирования личности вопреки неблагоприятным жизненным обстоятельствам (Нартова-Бочавер, Пак, 2022).
В современных исследованиях, посвященных изучению психологических последствий ПТС, внутренние условия личности (включая базисные убеждения, мотивацию) в зависимости от их характера рассматриваются как предпосылки, способствующие или препятствующие развитию интенсивного дистресса. Такой подход наиболее успешно позволяет выявлять группы риска. При этом вопрос о соотношении актуальных и «дотравматических» психологических особенностях человека остается наименее раскрытым. Во многом это связано с ограничениями исследований типа постфактум, которые в настоящее время могут быть частично преодолены благодаря применению ретроспективного анализа. Представляется, что изучение динамических аспектов того, как человек справляется с воздействием высокоинтенсивных стрессоров, содействует эффективному поиску маркеров, способствующих актуализации потенциала субъекта при переживании им ненормативного кризиса.
Целью настоящего исследования является анализ особенностей актуальной и ретроспективной оценок базисных убеждений, мотивационных предпочтений людей, имеющих угрожающее жизни заболевание, в зависимости от уровня посттравматического стресса. Гипотеза исследова- ния заключалась в предположении о том, что при угрожающем жизни заболевании у личности меняется отношение к себе и мотивация к самопознанию, причем при низком уровне посттравматического стресса, в отличие от высокого уровня, такие изменения носят положительный характер.
Методология . Участниками исследования стали пациенты, имеющие общий диагноз «доброкачественная менингиома» при отсутствии признаков когнитивного дефицита, подписавшие информированное согласие (n = 65, в возрасте от 30 до 70 лет).
Были использованы следующие методики:
-
1) «Шкала оценки влияния травматического события» (ШОВТС, Impact of Event Scale, IES-R) в адаптации H.B. Тарабриной с соавторами привлекалась с целью оценки уровня посттравматического стресса в исследуемой выборке (Тарабрина, 2021);
-
2) «Шкала базисных убеждений» (World assumptions scale, WAS) в адаптации М.А. Падун и А.В. Котельниковой использовалась для анализа актуальной и ретроспективной оценок базисных убеждений респондента (Падун, Котельникова, 2008);
-
3) «Список личностных предпочтений» А. Эдвардса (Edwards Personal Preference Schedule, EPPS) в адаптации Т.В. Корниловой с соавторами применялся для изучения актуальной и ретроспективной оценок мотивационных предпочтений пациента (Корнилова, Парамей, Ениколопов, 1995).
Последние две методики пациент заполнял дважды. Повторное предъявление методики респонденту предусматривало временной интервал и изменение формулировки к стандартной инструкции (во второй раз пациента просили ответить так, как бы он ответил до постановки диагноза).
Статистическая обработка данных была проведена при помощи программы STATISTICA_10, вычислялись медианы (Me), U-критерий Манна – Уитни, Т-критерий Вилкоксона на уровне значимости р < 0,05.
Результаты и их обсуждение . Перед началом анализа респонденты были разделены на группы. Критерием деления выборки являлось медианное значение интегрального показателя травматизации (ИТ) методики ШОВТС (Ме = 24). Всего было получено 2 группы: 1) «Низкий ПТС» – n = 34 (Ме по «ИТ» – от 0 до 24); 2) «Высокий ПТС» – n = 31 (Ме по «ИТ» – от 25 до 98).
Мы предполагали, что при высоком ПТС у респондентов будут наблюдаться признаки, свидетельствующие о неэффективной переработке психологической травмы, например, сниженная мотивация к самопознанию, появление неуверенности в ценности и значимости своего Я (при актуальной оценке по сравнению с ретроспективной). Однако это не совсем так. Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов, имеющих высокий уровень ПТС, скорее присутствует риск негативной переоценки жизненного опыта в целом, чем появление нежелательных изменений в самоотношении исключительно при актуальной самооценке.
Результаты показали, что при высоком ПТС различий между актуальными и ретроспективными оценками по методикам «Шкала базисных убеждений» и «Список личностных предпочтений» А. Эдвардса не наблюдается (p > 0,05). Однако в отличие от пациентов с низким ПТС, респонденты второй группы менее убеждены в ценности и значимости своего Я, своей удачливости и способности к контролю, испытывают вину и беспомощность (как при актуальной, так и при ретроспективной самооценке (табл. 1)).
Таблица 1 – Различия между пациентами с низким и высоким уровнями ПТС по базисным убеждениям и мотивационным предпочтениям при актуальной и ретроспективной оценке
|
Показатель |
«Низкий ПТС» Ме 1 и Ме 2 |
«Высокий ПТС» Ме 1 и Ме 2 |
U 1 и U 2 |
|
Шкала базисных убеждений |
|||
|
Образ Я |
Ме 1 = 32; Ме 2 = 31 |
Ме 1 = 27; Ме 2 = 27 |
U 1 = 220; U 2 = 298 |
|
Удача |
Ме 1 = 35; Ме 2 = 35 |
Ме 1 = 31; Ме 2 = 31 |
U 1 = 321; U 2 = 280 |
|
Убеждения о контроле |
Ме 1 = 29; Ме 2 = 27 |
Ме 1 = 25; Ме 2 = 25 |
U 1 = 352; U 2 = 335 |
|
Список личностных предпочтений А. Эдвардса |
|||
|
Доминирование |
Ме 1 = 8; Ме 2 = 8 |
Ме 1 = 6; Ме 2 =5 |
U 1 = 342; U 2 = 281 |
|
Чувство вины |
Ме 1 = 6; Ме 2 = 5 |
Ме 1 = 9; Ме 2 = 9 |
U 1 = 282; U 2 = 231 |
Примечание : индекс = 1 – актуальная оценка; индекс = 2 – ретроспективная оценка. Представлены достоверно значимые различия на уровне р < 0,03.
На первый взгляд, выявленные особенности у людей с высоким ПТС можно было бы объяснить исходя из того, что при переживании пациентом дистресса процессы качественного переосмысления травматического опыта мало выражены (поэтому мы наблюдаем различия только при межгрупповом сравнении пациентов с разным уровнем ПТС). Однако представляется, что в состоянии повышенного стресса индивид не просто погружен в психотравмирующую ситуацию, но и оказывается словно “застывшим” в ней (нет различий в актуальных и ретроспективных оценках при внутригрупповом сравнении пациентов с высоким ПТС). По всей видимости, теряя веру в собственные силы, ощущая свою уязвимость и жалость к себе, человек начинает проецировать свое актуальное состояние дистресса не только в будущее (считая ситуацию безвыходной), но и в прошлое (обесценивая потенциал своей ресурсности в целом). Мы полагаем, что таким малоэффективным способом личность, испытывающая высокий уровень ПТС, пытается разрешить внутренние противоречия и хоть как-то стабилизировать свою картину мира.
При низком уровне ПТС пациенты наоборот имеют позитивное представление о себе, своих возможностях, не склонны сверх меры обвинять себя, а более предпочитают проявлять силу Эго (табл.1). Наряду с этим они сообщают о том, что после пережитого потрясения, связанного с постановкой тяжелого диагноза, лучше понимают себя, принимают этот мир, его недостатки и свои несовершенства (табл. 2).
Таблица 2 – Различия в актуальной и ретроспективной оценках базисных убеждений и мотивационных предпочтений у пациентов с низким уровнем ПТС
|
Показатель |
Актуальная оценка (Ме) |
Ретроспективная оценка (Ме) |
T |
p-уров. |
|
Шкала базисных убеждений |
||||
|
Справедливость |
24 1 |
21 1 |
97 1 |
0,05 |
|
Список личностных предпочтений А. Эдвардса |
||||
|
Самопознание |
7 |
6 |
68 |
0,03 |
|
Чувство вины |
6 |
5 |
64 |
0,04 |
Как показывают данные, при низком ПТС человек не дистанцируется от пугающей реальности, а проявляет склонность к саморефлексии, которая, что немаловажно, носит не только позитивный, но и рациональный характер. О последнем могут косвенно свидетельствовать, как ни парадоксально, более выраженные (по сравнению с ретроспективной оценкой), но вместе с этим умеренные (по сравнению с группой «Высокий ПТС») показатели по шкале «Чувство вины» (методика «Список личностных предпочтений» А. Эдвардса). Безусловно, неоспорим тот факт, что избыточное стремление человека к принятию на себя вины негативно сказывается на его психологическом благополучии, в особенности при угрожающем жизни заболевании, которое является эндогенной угрозой жизни (затрагивающей систему самоотношения личности). При этом умеренные показатели данной направленности субъекта могут свидетельствовать о его готовности брать на себя ответственность, а, следовательно, способствовать более успешной интеграции больного в социум (включая мотивированность пациента к построению межличностных отношений на паритетных основаниях). Обостренное чувство справедливости в психологии чаще интерпретируется как неспособность личности к адекватному оцениванию внешних условий. Результаты настоящего исследования показали, что у пациентов при низком уровне ПТС наблюдаются умеренные значения по шкале «Справедливость» методики «Шкала базисных убеждений». Мы полагаем, что рост данного показателя (в пределах умеренных значений) при актуальной самооценке косвенно указывает на избирательность пациентов этой группы по отношению к негативным аспектам ситуации болезни.
Переходя к обсуждению полученных результатов, необходимо уточнить, что угрожающее жизни заболевание в исследовании изучается в качестве стрессора высокого уровня интенсивности. Наши предыдущие результаты позволили доказать, что для части пациентов, имеющих диагноз «доброкачественная менингиома», характерно возникновение выраженного посттравматического стресса и группы отдельных его симптомов (Харламенкова и др., 2021). В настоящей статье при использовании ретроспективного анализа было показано, что тяжелое жизненное событие, связанное с болезнью, не выступает для человека частью его анамнеза, а является актуальной психологической травмой. Полученные эмпирические результаты указывают на значимость приверженности к комплексности при разработке программ психологической реабилитации для людей с диагнозом «доброкачественная менингиома», в которых наряду с психологической коррекцией актуального состояния больного особое внимание было бы уделено восполнению позитивного самоотношения пациента в целом. Мы полагаем, что ресурсность субъекта не ограничивается “источниками настоящего”, важным оказывается и то, насколько рационально личность может обратиться к своему накопленному жизненному опыту, который включает представления человека о своих возможностях. Данные представления не статичны в сознании субъекта, они изменяются ввиду происходящих событий, поэтому при психологической реабилитации тяжелобольных значимо своевременно определять предрасположенность пациента к обесцениванию своего личностного потенциала и проявлению пассивности при столкновении с трудно- стями. Вслед за Д. Макадамсом, который писал о том, что интериоризованный и постоянно развивающийся Я-нарратив включает в себя реконструированное прошлое, постигаемое настоящее и предвосхищаемое будущее (McAdams, 2019), мы хотели бы обратить внимание на значимость рассмотрения субъекта при переживании им ненормативного кризиса с учетом его целостного самоотношения. Сохранение уверенности пациента в себе и своих силах в ситуации болезни, несмотря на негативные ее факторы (стигматизация, вынужденная зависимость от Другого и т. д.), помогает ему реализовывать совладающее поведение более разнообразно и функционально (избирательно), используя как внешние источники поддержки, так и внутренние. В свою очередь, затруднения пациента в поддержании стабильного позитивного самоотношения в тяжелой ситуации не только повышают риск нарастания психологических последствий, но и ограничивают ресурсность, препятствуя рациональному обращению субъекта к жизненному опыту.
Выводы . Таким образом, гипотеза исследования частично подтверждена. Результаты показали, что при высоком ПТС у людей, имеющих угрожающее жизни заболевание, не наблюдается различий между актуальными и ретроспективными оценками мотивационных предпочтений, представлений о себе и мире. При этом они в целом не уверены в себе и своих возможностях, склонны избыточно обвинять себя и проявлять пассивность, что указывает на риск обесценивания больным своего личностного потенциала. При низком уровне ПТС пациенты имеют позитивное представление о себе, своих возможностях, не склонны сверх меры обвинять себя, а предпочитают проявлять силу Эго. После пережитого потрясения, связанного с постановкой тяжелого диагноза, они лучше понимают себя и способны принимать окружающую действительность во всех ее проявлениях, включая негативные стороны, что указывает на их рациональную саморе-флексию в ситуации болезни.
Список литературы Базисные убеждения и мотивационные предпочтения людей при тяжелом соматическом заболевании: актуальная и ретроспективная оценка
- Катыкова И.М., Попова Т.А., Ланберг О.А. Самоценность и смысл жизни личности (на примере пациентов с диагнозом острого ишемического инсульта) // Смыслообразование и его контексты: жизнь, структура, культура, опыт. 2022. №. 1. С. 192-196.
- Корнилова Т.В., Парамей Г.В., Ениколопов С.Н. Апробация методики А. Эдвардса "Список личностных предпочтений" на российских выборках // Психологический журнал. 1995. Т. 16, № 2. С. 142-151.
- Нартова-Бочавер С.К., Пак В.В. Аутентичность и способность прощать при разных уровнях стресса: предварительное исследование // Клиническая и специальная психология. 2022. Т. 11, №. 1. С. 141 -163. htt ps://.
- Падун М.А., Котельникова А.В. Модификация методики исследования базисных убеждений личности Р. Янофф-Бульман // Психологический журнал. 2008. Т. 29, № 4. С. 98-106.
- Русина Н.А. Трансформация жизненных смыслов пациентов онкологического профиля как предиктор их посттравматического роста // Смыслообразование и его контексты: жизнь, структура, культура, опыт. 2022. №. 1. С. 188-192.
- Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. СПб., 2001. 272 с.
- Тяжелая болезнь как экзистенциальная проблема / Н.Е. Харламенкова [и др.] // Психологический журнал. 2021. Т. 42б № 6. С. 70-82.
- McAdams D.P. "First we invented stories, then they changed us": The Evolution of Narrative Identity // Evolutionary Studies in Imaginative Culture. 2019. Vol. 3, no. 1. Pp. 1-18.