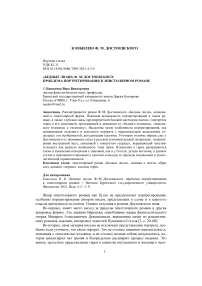«Бедные люди» Ф. М. Достоевского: проблема портретирования в эпистолярном романе
Автор: Башкеева Вера Викторовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: К юбилею Ф. М. Достоевского
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди», написанный в эпистолярной форме. Показана возможность портретирования в таком романе, а также глубокая связь предпортретной базовой категории имени с портретом героя и его эволюцией, протекающей в движении от «бедного человека», «маленького человека» к «человеку». Выделены такие особенности портретирования, как минимизация телесного и жестового портрета с выразительным выделением отдельных его особенностей, актуализация костюма. Уточнено отличие образа слез у Достоевского от понимания слезы в русской сентиментальной литературе. Акцентирован внутренний жест, связанный с концептом «сердце», выражающий чувствительность как важную особенность типа героя. Изменения в герое раскрываются также в изменении отношения к знаковой, как и у Гоголя, детали костюма, в данном случае в изменении отношения к сапогам и выходе за пределы социальной и психологической ограниченности.
Эпистолярный роман «бедные люди», мимика и жесты, образ слез, концепт «сердце», костюм героя
Короткий адрес: https://sciup.org/148324132
IDR: 148324132 | УДК: 82-31
Текст научной статьи «Бедные люди» Ф. М. Достоевского: проблема портретирования в эпистолярном романе
Башкеева В. В. «Бедные люди» Ф. М. Достоевского: проблема портретирования в эпистолярном романе // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2021. Вып. 4. С. 3‒9.
Жанр эпистолярного романа как будто не предполагает портретирования, особенно портретирования авторов писем, предстающих в слове и в каком-то смысле прячущихся за словом. Однако ситуация в романе Достоевского иная.
Во-первых, имеет место выход за пределы эпистолярного романа в другие жанровые формы. Это дневник Вареньки, опробование жанра физиологического очерка Макаром Алексеевичем Девушкиным, вкрапление цитат из романтических романов, наконец, интертекст повестей Пушкина и Гоголя [3, с. 20–60].
Во-вторых, сама материя письма не исключает представления портрета, особенно если уточнить, что такое портрет. Это не столько внешняя описательность, связанная с телесностью человека, и не столько модная сейчас визуальность, которая акцентирует акт зрения и беспредельно расширяет процесс видения. Это живое, целостное представление героя в единстве внутреннего и внешнего чело- века, когда внутренний человек воплощается в телесных формах, в диапазоне от размашистых жестов до едва заметных или даже внешне с трудом фиксируемых изменений тела. Внешний человек есть форма выражения внутреннего человека и ограничен психологичностью, изменениями эмоций, чувств, состояний, мыслей героя. И такого портрета у Достоевского много. «Интенсивность визуальной перцепции» у Достоевского отмечает А. Б. Криницын [см.: 5].
Надо сказать и о такой важнейшей, базовой предпортретной категории, как имя. Это может быть любое имя, каким-то образом определяющее персонаж в социальном или психологическом смысле, вплоть до имени собственного, яркого выражения личности героя. Факт именования создает героя как субъекта повествования.
Особенностью стиля Достоевского является использование большого числа имен-определений, как социально, так и психологически ориентированных. Писатель вообще стремится к оценке, к оцениванию своих героев, и внешняя твердость такого оценивания коррелирует с текучестью и изменчивостью сознания героя. Самое главное для писателя имя вынесено в название — «бедные люди», отметим еще такие характеристики и определения, как «сиротка», «вдовица», «чиновник», автохарактеристики «смирный человек», «маленький человек», «нелюдимка», «дикарка» и другие [4, с. 95].
С точки зрения именования главный герой движется от обусловленности, ограниченности, даже масковости определенного именования к широте самоопределения. Если в более раннем письме к Вареньке, от 12 июня, он называет себя «маленьким человеком», то в письме от 21 августа констатирует: «все-таки я человек», «сердцем и мыслями я человек» [2, с. 126].
В этом диапазоне от отсутствия самооценивания через «бедных людей», «маленького человека» до констатации своей человечности заключены и портретирование, и самопознание, рефлексия, ментальные открытия героя. Причем эта линия от бедного человека к человеку характерна в большей степени для Девушкина. Даже при некоторой идилличности его жизни на прежней квартире с доброй старушкой-хозяйкой он прежде всего бедный человек. Корреляция между данным понятием и понятием «маленький человек» заключается в факте социально невысокого уровня персонажа и вытекающей отсюда проблеме бедности. Причем диапазон толкования понятия «бедные люди» может быть достаточно широким. Понятие «маленький человек» содержит для Достоевского иные дополнительные смыслы, в том числе включает в себя и проблему самосознания, самооценивания героя.
У Вареньки другая модель. Детство ее, во всяком случае в воспоминаниях, хотя и не лишено проблемности пребывания в пансионе, но определено как счастливое детство в семье с родителями. Дальнейшее же движение связано с лишениями, сложностями, превращением в сиротку, «бедного» человека. Отсюда история с чтением повестей А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя задевает именно Макара Девушкина, а не его эпистолярного визави [7, 10].
Констатируя наличие портрета в эпистолярном романе Ф. М. Достоевского, мы должны отметить определенные особенности, присущие именно авторской стилевой манере. Писатель с помощью Вареньки, характеризующей старика Покровского, довольно широко и точно называет элементы словесного портрета:
«лицо», «жесты», «движения»: «Удовольствие проглядывало в его лице, в его жестах, в его движениях» [2, с. 65]. И еще важно понятие «фигура», когда Макар Алексеевич характеризует себя через него: «и фигурой я не беру», «Они, злодеи-то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная» [2, с. 126].
Ясно, что понятие «фигура» является важным для героя. Уязвленный в социальном и материальном статусе, герой оказывается уязвлен и в телесном смысле. И хотя «фигура» его, равно как и «физиономия», не описана, некоторое представление мы можем получить через двойников Девушкина — старика Покровского, чиновника Горшкова. Вот как описывается старик Покровский: «запачканный дурно одетый, маленький, седенький, мешковатый, неловкий» [2, с. 62], — или чиновник без места Горшков: «седенький, маленький; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье», «жалкий, хилый такой», «коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит» [2, с. 51]. Предположительно, Девушкин такой же робкий, такого же маленького роста, что уязвляет его, худенький, в условиях материальных ограничений еще больше похудел. Понятие «фигура» связано поэтому не только с телесными характеристиками, но и с социальными, и с само-рефлексией персонажа.
Элементы портрета названы, отмечаем семантическую минимизацию его и узкий, но одновременно выразительный спектр. Так, в лице практически не описаны глаза, не показаны взгляды, выделена как доминирующая и частотная особенность — слезы персонажа, его плач.
Слезы настолько привычны для Вареньки и ее картины мира, что выражают самые разные чувства; они связаны и с печалью, и с досадой, и с радостью («Я не могла удержаться от слез и смеха [2, с. 76]), и с отчаянием («Я заплакала вдруг, как дитя, зарыдала, сама себя удержать не могла» [2, с. 70]). Героиня констатирует в письме от 11 июня: «Я и сама не знаю, отчего я все плачу» [2, с. 80]. Со слезами связано и отсутствие слез, их невозможность, своеобразное следование романтической традиции, когда максимальная форма выражения чувства воплощается в отсутствии движения, в замирании и обмирании, в некоем пространственном мороке. Варенька признается, что в момент смерти Покровского «…не могла плакать; но душа моя разрывалась на части» [2, с. 78]. Слезы есть главное выражение внутреннего состояния героини.
Способность к слезам в целом отмечает бедных людей Достоевского, не только Вареньку, но и Макара Девушкина, и старика Покровского, и находящегося в состоянии судебного разбирательства чиновника Горшкова («Слезы текут у него, да, может быть, и не от горести» [2, с. 85]). Прослезиться может даже представительница «чужого» мира Анна Федоровна («когда матушка объявила, что никогда не чувствовала к ней неприязни, то она прослезилась» [2, с. 58]).
Учет такой важной портретной особенности сентиментальной повести, как слезы, стал одним из оснований для характеристики метода Достоевского как метода « сентиментального натурализма» (курсив наш. — В. Б. ). Сегодня целая группа литературоведов поднимает вопрос о наследовании писателем традиций русского сентиментализма, в том числе в преемственности названий — от «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина к «Бедным людям» Ф. М. Достоевского [3, с. 61–65].
Однако признания факта связи романа с сентименталистскими традициями мало, ведь это не позволяет увидеть своеобразия Достоевского, ни в понимании концепции человека, ни в определении портрета [9]. Если говорить о портретировании у Карамзина, то слезы являлись лишь одной из портретных деталей, не более важной, чем взгляды, «краски лица» или статический портрет, бывший близким то к фольклорной манере, то к формирующемуся романтическому стилю [1, 149–170]. Что же касается Достоевского, то при минимизации описания внешности героев мимика и жесты начинают играть более важную роль.
Слезы в сентиментализме были знаком естественности и чувствительной, восприимчивой, по-своему тонкой, способной воспринимать прекрасное души. Принципиально важное значение имеет смена ориентиров с идеи естественности и простоты на подчинение у Достоевского форм выражения человека социальным нормам и условиям жизни. Частная жизнь уже показана не в отрыве от социальной жизни, а в значительной степени в зависимости от нее, приспосабливании к ней. Так, когда отец сердится, Варенька старается быть незаметной, тихой, а матушка боится плакать. В пансионе от тоски героиня плачет «тихонько», «пойдешь в уголок и поплачешь одна-одинешенька, слезы скрываешь» [2, с. 94].
«Патетическая чувствительность сентименталистского нарратива» [7, с. 593] меняется на социально и психологически обусловленную чувствительность, имеющую более интровертный характер и более частные формы проявления. Нельзя не отметить и различные формы психологизма с ориентацией на более индивидуализированную человеческую натуру, противоположные обобщенному изображению абстрактных характеров XVIII в.
Расширение функции слез и наделение ими почти всех героев делают слезы и более важной приметой человека и в то же время менее индивидуальной характеристикой. Другое дело, что слезы позволено изливать прежде всего женщинам, отсюда и центральное место Вареньки в такого рода портрете.
Что касается жестов, то Достоевский при минимизации обычных жестов и движений человека оставляет те, которые имеют слабо контролируемую или неподконтрольную уму и воле природу. Это, например, дрожание героя, не столько от холода, сколько от волнения, переживаний, ужаса. Можно говорить об определенной физиологизации жестового телесного начала, сопряженного с пониманием тела как слабого тела, подверженного болезням, холоду, недоеданию. Символический характер ходьбы на цыпочках героя Гоголя Башмачкина потому так сильно и задевает Девушкина, что изначально он натуралистичен, правдоподобен, физиологичен. Эта гоголевская традиция «слабого тела» развивается Достоевским достаточно явно.
Еще одна особенность портретирования человека с точки зрения жестового рисования — это, ожидаемо, активизация внутреннего жеста, того жеста, который является телесно неразмашистым, по-своему сдержанным и напрямую манифестирует чувства персонажа. У Достоевского активен внутренний жест, связанный с сердцем. Концепт «сердце» у писателя — и синоним концепта «душа», и показатель большей физиологичности в понимании и восприятии внутреннего человека, так как указание на сердце более телесно. Для Достоевского это очень важный концепт: не случайно через 2–3 года он напишет повесть «Слабое сердце», выведя концепт в название.
Страницы писем пестрят обращением к данному концепту: «Сердце у меня такое же, как и у другого человека» (письмо от 12 июня) [2, с. 81], «У меня серд- це кровью обливается при одном воспоминании» (письмо от 20 июня) [2, с. 83], «…люблю вас крепко, сильно, всем сердцем» (письмо от 1 июля) [2, с. 95], «Точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть (письмо от 1 июля) [2, с. 97], «Вы уж слишком сильно все принимаете к сердцу» (письмо от 5 августа) [2, с. 117] и др. И то, что часть примеров является устоявшимися в языке фразеологизмами, не умаляет факта чрезвычайной активности у писателя данного концепта. В случае такого внутреннего жеста тело как материальная толща имеет меньшее значение, сердце одного человека напрямую, преодолевая физиологическую телесность, стремится к сердцу другого человека.
Это и есть та чувствительность героев Достоевского, которую ряд авторов приближает к сентиментальной чувствительности. Но у Достоевского она имеет нескольку иную природу. С одной стороны, это спонтанность, страстность, пламенность, неподчиненность чувства уму, как частенько бывает у Вареньки, с другой — у формирующегося мыслителя Макара Девушкина в письме от 1 августа дана такая характеристика: «Бедные люди капризны, — это уж так от природы устроено. Я это и прежде чувствовал, а теперь еще больше почувствовал. Он, бедный-то человек, он взыскателен; он и на свет-то божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову, — дескать, не про него ли там что говорят» [2, с. 108–109].
Речь идет о том, что чувствительность неотделима от «амбиции», от уязвленного самолюбия человеческого. И это, конечно, не сентиментальная чувствительность, а явление иного порядка.
Минимизация органических, природных телесных форм ведет по принципу баланса к активизации такой портретной составляющей, как костюм. Одежда, всегда выполняющая социальную функцию, даже в случае подчеркивания моды, как у Пушкина, или вкуса, как у Лермонтова, обретает у Достоевского вслед за Гоголем символическую социальную знаковость1: старая и новая одежда становятся знаками благосостояния. Гоголевская шинель сменяется у Достоевского особым акцентированием сапог. Образ еще более яркий, чем шинель. Башмач-кин, хотя и с трудом, но накопил на шинель, а Макар Алексеевич Девушкин все же не смог купить новые сапоги на свои сбережения.
Частота обращения к такой детали костюма, как сапоги, весьма высока, показаны они в самых разных связях и контекстах. Исследователь, говоря о жестах в «пятикнижии» Достоевского, отмечает «плотный визуальный ряд, далеко не всегда выступающий в форме описательных конструкций…; но часто выполняющий разнообразные функции — от характеристики персонажей до выявления символического смысла изображаемого» [8]. То же и в первом романе. Девушкин хотел бы стать сочинителем, но сапоги — письмо от 26 июня — «почти всегда в заплатках, да и подметки, по правде сказать, отстают иногда весьма неблагопристойно» [2, с. 90]. Отметим физиологизацию обуви в письме от 8 июля: «Сапоги новые, например, с таким сладострастием надеваешь» [2, с. 101], — и потрясающее открытие в письме от 5 августа, что сапоги носишь для людей: «нужны мне для поддержки чести и доброго имени» [2, с. 119].
По мере изменения личности наблюдается попытка освободиться от власти обстоятельств, протест в письме от 19 августа: «Да и сапоги тоже вздор! И мудрецы греческие без сапог хаживали, так чего же нашему собрату с таким недостойным предметом нянчиться?» [2, с. 125].
И, наконец, «горячее слово» героя, отлитое в жанр притчи («иносказательно», «не в прямом смысле»), когда мастеровому, сапожнику, живущему в «сырой конуре какой-нибудь», и полярному ему типу — «богатейшему лицу» в «позлащенных палатах», снятся сапоги, снится одна и та же тема. И далее следует глубокое рассуждение — не заемное, собственное! — прозревающего и пришедшего к человеческому самопри-знанию героя: «Ибо в смысле-то, здесь мною подозреваемом, маточка, все мы, родная моя, выходим немного сапожники» [2, с. 135], а значит, думаем о по сути низменных материях. И никто не подскажет богатейшему лицу, что не сапоги надо видеть во сне, а помогать ближнему своему, погибающему от мук бедности и отчаяния. Так, отношение к сапогам фиксирует эволюцию героя в его движении к человеку.
Таким образом, в первом романе Достоевского «Бедные люди» были заложены отдельные принципы как характерологии, так и портретного рисования героев, которые будут развиваться в дальнейшем творчестве писателя.
Список литературы «Бедные люди» Ф. М. Достоевского: проблема портретирования в эпистолярном романе
- Башкеева В. В. От живописного портрета к литературному. Русская поэзия и проза конца XVIII - первой трети XIX века. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1999. 270 с. Текст: непосредственный.
- Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 12 т. Москва: Правда, 1982. Т. 1. 384 с. Текст: непосредственный.
- Жилякова Э. М. Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского (1844-1849). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. 272 с. Текст: непосредственный.
- EDN: VNNCOB
- Ковалев О. А. Нарративные стратегии в творчестве Ф. М. Достоевского. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. 316 с. Текст: непосредственный.
- EDN: RXXZBP
- Криницын А. Исповедь подпольного человека. К антропологии Ф. М. Достоевского. Москва: Диалог МГУ, МАКС-пресс, 2001. 372 с. Текст: непосредственный.
- Мехтиев В. Г. О метасмысле портрета у Ф. М. Достоевского. URL: https://cyberleninka.ru/article/n7ometasmysle-portreta-u-f-m-dostoevskogo (дата обращения: 10.11.2021). Текст: электронный.
- Пахсарьян Н. Плач и слезы в романе рококо ("Жизнь Марианны" Мариво) // XVIII век: смех и слезы в литературе и искусстве эпохи Просвещения: коллективная монография / под редакцией Н. Т. Пахсарьян. Санкт-Петербург: Алетейя, 2018. С. 587-596. Текст: непосредственный.
- Пухачев С. Б. Поэтика жеста в произведениях Ф. М. Достоевского (на материале романов "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы"): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. URL: https://cheloveknauka.com/poetika-zhesta-v-proizvedeniyah-f-m-dostoevskogo (дата обращения: 10.11.2021). Текст: электронный.
- Степанян К. А. "Сознать и сказать": "Реализм в высшем смысле" как творческий метод Ф. М. Достоевского. Москва: Раритет, 2005. 400 с. Текст: непосредственный.
- Сырица Г. Поэтика портрета в романах Ф. М. Достоевского. Москва: Гнозис, 2007. 406 с. Текст: непосредственный.