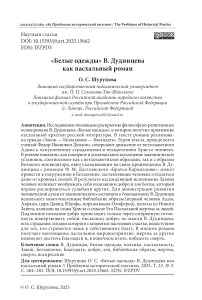«Белые одежды» В. Дудинцева как пасхальный роман
Автор: Шурупова О.С.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено раскрытию философско-религиозных основ романа В. Дудинцева «Белые одежды», в котором получил проявление пасхальный архетип русской литературы. В тексте романа реализована триада «Закон — Беззаконие — Благодать». Герои текста, прежде всего ученый Федор Иванович Дежкин, совершают движение от ветхозаветного Адама к искупленному страданиями и воскресением Христа человеку. В романе показано, как покорное и доскональное исполнение законнических установок, соотносимое как с ветхозаветными образами, так и с образом Великого инквизитора, явно указывающим на связь произведения В. Дудинцева с романом Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», может привести к погружению в Беззаконие, заставляющее человека отказаться даже от кровных связей. В результате насаждающий исполнение Закона человек начинает воображать себя познавшим добро и зло богом, который вправе распоряжаться судьбами других. Для демонстрации развития человеческой души от законнического состояния к благодатному В. Дудинцев использует многочисленные библейские образы (первый человек Адам, Авраам, царь Давид, Юдифь, поражающая Олоферна), цитаты из Нового Завета, аллюзии на слова Христа о смысле Его Пасхальной жертвы за людей. Подлинное познание добра происходит только через смиренную готов- ность пожертвовать собой, поскольку добро, по мысли В. Дудинцева, есть страдание, плодом которого становится настоящее счастье, недоступное для тех, кто стремится лишь к собственному благу. В эпилоге романа получает воплощение пасхальное мировосприятие: жертва за других позволяет достичь Благодати и, в конечном итоге, победить смерть.
В. Дудинцев, Белые одежды, поэтика, пасхальность, Закон, Беззаконие, Благодать, добро, зло, библейские образы, жертва, смерть, воскресение
Короткий адрес: https://sciup.org/147251697
IDR: 147251697 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15662
Текст научной статьи «Белые одежды» В. Дудинцева как пасхальный роман
И сследуя русскую литературу, И. А. Есаулов пришел к выводу о существовании в ней особых архетипов, под которыми ученый понимает «трансисторические коллективные представления, которые формируются и обретают определенность в том или ином типе культуры» [Есаулов, 2017: 19]. Ключевым для русской культуры и словесности исследователь считает пасхальный архетип, который проявляется в акцентировании в произведениях отечественной литературы особой жертвенности и надежд не на земное, а на небесное воздаяние. Этот архетип в полной мере проявляет себя и в ряде произведений, созданных в ХХ в., который Г. Гачев назвал «эпохой великих "географических" открытий в психике людей» [Гачев: 683] и в котором вектор советской литературы был задан представлениями, отнюдь не связанными с православным миропониманием. В это время, однако, появляется роман В. Дудинцева «Белые одежды», название которого отсылает читателя к эпизоду «Откровения» Иоанна Богослова.
Роман В. Дудинцева «Белые одежды» несколько реже, чем многие другие произведения, созданные в ХХ в., подвергался серьезному научному исследованию. В посвященных ему работах отечественных ученых, как правило, исследуются его языковые особенности [Аракчаа], [Астафьева], [Синелева]. Е. А. Иваньшина и Э. Э. Пригункова обращаются к изучению хронотопа романа [Иваньшина, Пригункова]. Предприняты попытки описать его интертекстуальные пласты [Старцева]. В работах ряда ученых присутствует анализ христианской основы романа [Кудрявцева, 2020], [Лихварь]. Однако большая часть посвященных роману работ либо являются исследованиями студентов [Изотов], [Кудрявцева, 2022], [Лихварь], либо созданы сравнительно давно [Астафьева], [Долгополова]. За последние годы появлялись только очень немногочисленные исследования, посвященные этому роману. Между тем произведение В. Дудинцева представляет собой яркий пример пасхального романа. В данной статье рассмотрим, как в романе проявляется важнейший для русской культуры архетип пасхальности и связанные с ним категории Закона и Благодати.
Тема Закона впервые звучит уже в первой главе, когда в институтском парке появляется пока еще безымянный
«человек в ковбойке»1, которого обсуждают, не зная, что проверяющий из Москвы стал их невольным слушателем. Сотрудники института называют его Торквемадой, великим испанским инквизитором. Так, еще не зная имени главного героя романа, читатель уже может соотнести его с персонажем поэмы «Великий инквизитор», сочиненной Иваном Карамазовым. Ф. М. Достоевский описывает, как явившийся в пятнадцатом веке Христос, возжелавший «посетить детей своих» [Достоевский; т. 14: 226], встречается на Земле с Великим инквизитором, который заявляет, что счастливым человечество сделают лишь отказ от свободы и соединение в «общий и согласный муравейник» [Достоевский; т. 14: 235]. Именно таким инквизитором, готовым силой принуждать людей к единому и заранее определенному для них образу мыслей, представляется героям романа В. Ду-динцева Федор Дежкин, приехавший инспектировать Сельскохозяйственный институт, то есть представлять Закон, утвержденный на августовской сессии Академии наук.
В открывающем историю русской литературы «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона, произнесенном им как пасхальная проповедь, безблагодатный Закон отождествлен с Ветхим Заветом, отмененным Благодатью после Воскресения Христова. Интересно, что персонажи романа В. Дудинцева, несмотря на то что являются советскими учеными, то есть, как предполагается, знатоками марксизма и материалистами, и делают выбор между верой и знанием в пользу знания, много цитируют именно Ветхий Завет, как бы вернувшись в состояние до искупительной жертвы Христа, на предыдущую ступень истории человечества, забывшего о Благодати. С героями романа, к сожалению, произошло то, что И. А. Есаулов в работе «Человек-вещь и христианское сознание» описывает как «ов-нешнение» и возвращение к «одномерному дохристианскому состоянию» [Есаулов, 2015: 453].
Так, обсуждая на кафедре предстоящую проверку, один из персонажей романа цитирует слова из Книги Бытия:
«Станете яко боги — будете ведать добро и зло» (38). «Это змий сказал, надо не забывать» (38), — заявляет другой ученый.
Такое обещание дал Еве змей-искуситель, побуждая ее вкусить запретный плод и нарушить данное Богом установление. Изучающий жизнь биолог Дежкин, приехавший утверждать Закон, одновременно претендует на открытие универсального ключа к пониманию добра и зла, то есть на то, чтобы «быть как боги» и отменить Закон. Ему действительно предстоит применить свой ключ на практике и, пройдя через страшное искушение, достичь духовного роста.
В начальных главах романа он напоминает человека в начале бытия, еще пребывающего в ярком, многоцветном Эдеме и воспринимающего мир как абсолютно новый, чудесный, многообещающий. Интересно, что в первой главе долгое время не сообщается его имя, и Федор именуется просто «человек», как библейский Адам. Символична и сцена, в которой Федор Дежкин и Лена Блажко озвучивают названия попадающихся им на пути растений: «потентилла торментилла», «плантаго майор», «румекс ацетозелла» (69–71). Это тоже напоминает ветхозаветный эпизод, в котором Адам с позволения Бога, подарившему человеку возможность изучать мир, дает имена всем животным и растениям. Человек, в обществе своей спутницы, счастлив и безмятежен, он изучает окружающий многообразный мир, в котором занимает определенное ему Богом место, и еще не знает о готовящемся дьявольском искушении.
Искушение это придет именно со стороны того, кого Федор считает отцом и кто тоже очень активно цитирует именно Ветхий Завет. Так, в одном из эпизодов романа академик Рядно заявляет Дежкину:
«Библия говорит: учи сына жезлом…» (202).
Он цитирует Книгу Притчей Соломоновых, в которой приводятся суждения, объединенные темой мудрости и ее значения в житейском обиходе. Мудрый не в небесном, а именно в земном плане Касьян Рядно излагает преданному ученику, которого обещает сделать наследником, то, что считает основами жизни:
«Карьеризм, Федя, свойство всей мыслящей материи. У одного карьеризм — в приобретении вещей. А у ученого… <…> Ученый приобретает умы» (202).
Позже он будет советовать Федору жениться и начать интересоваться тем, «чем нормальный человек <…> начинает интересоваться» (450). Если не всегда проявляющий покорность ученик позволит академику окончательно приобрести свой ум, то получит от него материальные блага и сможет безмятежно наслаждаться ими.
Но перед кем или чем должен смириться Федор? Согласно замыслу Рядно, лишь перед своим учителем. Себя академик, претендующий на окончательное знание о природе, сопоставляет с Богом:
«Бог знает, как проверить человека. Читал Библию? Как он Авраама проверял… Зарежь мне в жертву сынка родного, тогда поверю, что ты меня любишь. Авраам был верен, не то, что ты…» (540).
Чтобы вернуть расположение академика, Федор должен символически согласиться на принесение в жертву того, что ему дорого, а учителя символически признать Богом, имеющим право требовать этой жертвы. В первом откровенном разговоре с Дежкиным Стригалев, в сущности, упрекает его именно в обожествлении Рядно:
«У вашего бога руки не такие, чтобы картошку даже с готовым полиплоидом скрестить» (150).
В этом контексте приобретение ума созвучно с приобретением души, которую Федор должен отдать учителю.
По словам Ю. М. Лотмана, исследовавшего поведение бинарных оппозиций в смысловой организации культурного пространства, «двойственность <…> снимается высшим единством, образуя в целом образ тройственности как высшей полноты» [Лотман: 60]. На всех уровнях культуры прослеживается принцип тернарности, который «в структурном отношении универсален» [Лотман: 60]. Бинарная оппозиция «Закон/ Благодать» сменяется в пространстве романа триадой «Закон — Беззаконие — Благодать». Суровое соблюдение Закона, предписываемого академиком, дирекцией института, партией и так далее, приводит к Беззаконию, когда отказ от Благодати, не вмещающейся в прежнюю систему права, приводит не к возвращению к праву, а к нарушению любых моральных установок вообще. Настоящие, преданные науке ученые гибнут, потому что в погоне за земными наслаждениями и возможностями приобретать умы и властвовать над людьми академик и подобные ему люди не останавливаются ни перед чем. Как заявляет ошеломленному Федору Дежкину генерал Ассикритов, человек должен не искать истину, а «ошибаться вместе со всеми» (518). Люди, подобные Рядно и Ассикритову, готовы не только «зарезать сынка», но устранить истину, которая «стоит на пути» (518), и делают это не как Авраам, не по Божьему повелению, а исключительно из эгоистических соображений, которые прикрывают заботой о советском обществе. Такие люди любят ощущать себя богами, как «никелевый бог»:
«…что говорит глава направления, никелевый бог, — то и истина» (86).
Поведение таких, как Рядно, полностью согласуется с размышлениями великого инквизитора:
«Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились <…> над ними господствовать» [Достоевский; т. 14: 231].
Воплощением Беззакония становится в романе Ким Краснов, предавший отца и отказавшийся даже от своего настоящего имени (Прохор Бревешков) в угоду новой власти. Именно он обманом внедряется в круг настоящих ученых и предает их:
«— Надо же, отрекся от отца! <…> Что же ты такое, если не понимаешь, какая это вещь — кровная связь отца с сыном!» (421).
В образе этого человека, для которого нет ничего святого, овнешнение, потеря души достигают своего логического финала. Сменив данное отцом имя на новое, Ким совершает всё новые преступления, не останавливаясь ни перед чем. Если Закон требует, как указывает Рядно, пожертвовать сыном, чтобы соблюсти установленное, то Беззаконие зовет принести в жертву любое, что мешает преуспеянию, в том числе даже признанные Законом родственные связи. Отец преданного Красновым мальчика Саши говорит ему:
«Зверь ты, волк. <…> …бабушка твоя гуляла с сатаной» (1: 420).
Беззаконие действительно сближает человека со зверем и с бесом. Об этом говорит и великий инквизитор Ивана Карамазова, предлагающий разрешить жалкому, беззаконному человеку грех и тем поработить его.
По замечанию А. В. Лихваря, функция включения в роман В. Дудинцева библейского текста «заключается в демонстрации неизменности нравственных законов человечества на протяжении истории» [Лихварь: 101]. Эта идея не раз проговаривается Дежкиным:
«С самого начала начал — три тысячи лет назад в самых первых законах был уже записан злой умысел. <…> И этот злой умысел так и переходит без изменений из столетия в столетие, из закона в закон » (1: 168; здесь и далее курсив в цитатах мой. — О. Ш. ).
Дежкин, настаивавший в начале романа на соблюдении Закона, постепенно приходит к пониманию противоречивой связи Закона и Беззакония.
Сущность происходящего в романе раскрывается автором с помощью неоднократно упоминаемой картины итальянского живописца Антонелло де Мессина «Святой Себастьян»: «Всех современников и всех потомков, и нас с тобой нарисовал» (164), — говорит о художнике Туманова, героиня романа, в доме которой Федор впервые и замечает эту картину. Ее больше всего возмущает, что большинству людей, изображенных на картине и поглощенных своим бытом, «до лампочки» (165), что перед ними страдает и умирает невинный человек. Изображенным на картине язычникам представляется, что они «владеют конечным знанием» (165), и их свирепое следование букве принятого ими Закона порождает кровавое Беззаконие.
Как отмечает А. А. Кудрявцева, сюжет картины «очень точно соотносится со взаимоотношениями Кассиана Дамианови-ча и Федора Ивановича. Ведь первый, будучи убежденным приверженцем "лысенковского" направления в биологии, был уверен в твердости убеждений своего "сынка". Федор Иванович, перейдя во вражеский стан вейсманистов-морганистов, не спешит обличать свои воззрения перед покровителем, так как он убежден, что для осуществления войны, добру придется маскироваться под зло» [Кудрявцева, 2020]. Туманова отмечает, что видит на картине всех участников истории, кроме самого Федора, и говорит, что он присутствует там «не иначе, как в шапке-невидимке» (394). В первых главах романа он и не мог появиться на ней, но на протяжении текста, пройдя путь от ветхозаветного Адама до гонимого, Федор обретает на картине свое место. В первой половине произведения он сопоставляется с новыми и новыми героями Ветхого Завета, как бы двигаясь по пути к Новому Завету. Так, проводя ревизию в теплицах, он ощущает вину за то, что может причинить людям боль, и мысленно сопоставляет себя с «кротким царем-псалмопевцем Давидом, который возжелал Вирсавию и потому послал ее мужа Урию в самое пекло войны, чтобы его там убили» (62). Важно, что он постепенно начинает осознавать присутствие Беззакония, которое удобно прячется за законническими установками. Кроме того, Дежкин, еще накануне провозглашавший материалистический принцип неверия ни в судьбу, ни во что другое, с досадой осознает:
«Удивительно <…>, что ни случится в жизни, какая ни сложится ситуация — ищи в Библии ее вариант. И найдешь!» (62).
Впоследствии, в беседе с настоящим ученым Иваном Ильичем Стригалевым, которого и преследует Рядно, пытаясь отнять у него созданные им сорта картофеля, а самого ученого обречь на гибель в тюрьме, Федор Дежкин сопоставляется с другим библейским персонажем. Стригалев, рассказавший ему о темной сущности Рядно, предлагает Дежкину «подарить» «Библии еще один сюжет. Вроде Юдифи с Олоферном» (190). Федор Дежкин начинает вести с Рядно игру, как Юдифь, притворяясь его сторонником и преданным учеником, чтобы поразить злодея в неожиданный момент. Эта маскировка и делает его присутствие в сюжете о мучениях за Христа и истину сначала незаметным. Однако впоследствии Федора замечают:
«Сначала Федора Ивановича не видел никто, а потом увидели вдруг все бесы» (487).
Он получает возможность окончательно сделать выбор между Беззаконием, маскирующимся под Закон, и Благодатью и совершает путь от соблазненного Адама до ученика Христа.
Хотя в романе много отсылок именно к Ветхому Завету, объясняющихся художественным исследованием сущности Закона, Новый Завет, связанный с пасхальностью как ключевым архетипом романа, присутствует в тексте с самого начала. Его суть — искупительная жертва Христа, отдавшего себя для спасения людей. Суд над Христом, распятие, крестные страдания как бы совершаются снова. Сначала Федор Дежкин является всего лишь их свидетелем. Так, он сравнивает Анжелу Шамкову, предающую своего учителя Стригалева и заставляющую студентов подписывать отказ от его лекций, с фарисеями, которые «возлагают на людей бремена тяжелые и неудобоноси-мые… Сами же пальцем не двинут…» (134). А. В. Лихварь справедливо замечает, что «как соединение разных срезов языка в цитатах, так и передача их в более свободной, афористичной форме призваны продемонстрировать единство понимания добра и зла для людей всех времен» [Лихварь: 101]. Не совсем точно цитируя Евангелие и смешивая церковнославянские и русские слова, Федор Дежкин, сам того не осознавая, актуализирует давно прошедшие события, ведь смерть за Истину снова происходит практически на его глазах. Слова С. А. Мартьяновой о поэтике еще одного произведения ХХ в. — повести А. И. Солженицына «Раковый корпус» — можно отнести и к роману В. И. Дудинцева: «Библейская мудрость открывается героям как "наиреальнейшая реальность"» [Мартьянова: 333].
Е. А. Иваньшина и Э. Э. Пригункова, исследуя хронотоп романа, делают вывод, что «Дежкину предстоит выяснить, кто он — трус или смельчак, Инквизитор или Учитель…» [Иваньшина, Пригункова: 129]. Действительно, один из героев романа, Борис Николаевич Порай, который предупреждает Дежкина о том, что тем заинтересовались и что он не сразу поведал об этом «страха ради иудейска» (409), называет его Учителем. Казалось бы, это прозвище, используемое атеистом ХХ в., носит несколько кощунственный характер, ведь обычного человека не следует называть так, как звали Христа. С другой стороны, это прозвище вновь отсылает нас к Евангелию и подсказывает, что события двухтысячелетней давности вновь происходят с людьми, размышляющими о Добре и Зле. Дежкин сознательно отказывается от роли инквизитора, готового убить самого Христа во имя придуманного им счастья людей, и выбирает роль Учителя, готового принять за тех же людей страдание. Закон толкает на преступление — Благодать же заставляет жертвовать собой. Закон возлагает неудобоносимые бремена на других — Благодать, напротив, являет собой готовность самому нести эти бремена ради ближнего.
Тема страданий неоднократно поднимается в романе. Еще в его начале Федор Дежкин рассказывает об открытом им ключе Добра и Зла:
«Добро — страдание. Иногда труднопереносимое» (51).
Туманова в шутку велит Федору приготовиться к страданию, и ее слова сбываются. Он будет страдать, совершая духовное восхождение от состояния законнического следования затверженным правилам до состояния благодатного выбора положить душу за други своя.
На этот духовный рост указывает Евангельская притча, упомянутая Стригалевым, который становится в романе настоящим «Учителем», ведя Дежкина за собой к научной истине:
«Посадил зерно — должно прорасти. И действительно, растет» (120).
На связь этих слов с рассказом Христа обращает внимание К. А. Старцева: «Он уверен, что зерно науки может упасть только на благодатную почву (аллюзия на Христа как Сына Человеческого, "сеющего доброе семя") (Мф. 13, 37)» [Старцева: 105]. Однако нам представляется, что слова Стригалева в большей степени связаны со словами Христа о зерне:
«Аминь, аминь, глаголю вам: аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает: аще же умрет, мног плод сотворит» (Ин. 12:24)2.
Эти слова предвещают добровольную крестную смерть Христа за людей, искупление первородного греха, тема которого задана в романе В. Дудинцева цитированием слов змея-искусителя. В сущности, Стригалев предвещает свою судьбу. Предвидя ее, он говорит Дежкину, ставшему его учеником:
«И если я помру <…>. Я и после этого буду жить, и меня уже никто не поймает, и я доведу дело до конца <…>. Потому что меня уже будет не узнать. У меня будет ямка на подбородке, и звать меня будут Федор Иванович Дежкин» (188).
Дежкин продолжит дело Стригалева, через свое страдание сохраняя созданные им сорта.
Одним из ключевых эпизодов романа становится произошедший по воле судьбы июньский заморозок, который открыл пребывавшему в отчаянии Дежкину замысел уже заточенного в тюрьму Стригалева. Вся картошка на огороде погибла, почернела, кроме кустов нового сорта:
«…хромосомы, попав в условия, непригодные для жизни, начинают распадаться» (403).
Но среди поникших и потемневших растений Федор внезапно видит живые кусты, которые символизируют здесь людей, прошедших сквозь страшные испытания, как святой Себастьян, как Стригалев, как облеченные в белые одежды люди, пришедшие «от великой скорби» (54). Жизнь торжествует над смертью.
Интересно, что в поэме Ивана Карамазова о Великом инквизиторе тоже упоминается «откровение» Иоанна Богослова. Но инквизитор упрекает людей, что они «как бы не люди, а боги» [Достоевский; т. 14: 234], возвысившиеся через великие страдания. Он утверждает, что слабые не виноваты в том, что не нашли в себе такой силы. Однако роман В. Дудинцева убеждает: слабые поступают так не из-за слабости, а из древнего желания «жены ближнего, осла его и всякого скота его» (602) (в конце романа автор вновь цитирует Ветхий Завет, чтобы продемонстрировать состояние души чиновника, мешающего испытаниям нового сорта). Зло и беззаконие в романе В. Дудинцева появляется не из-за слабости людей, а из-за их желания прикрыться законническими установлениями, приобрести выгоду:
«…зло <…> обязательно дает доброе обоснование своим пакостям» (214).
Это иллюстрирует пример Вонлярлярского, рассуждающего о том, что он слаб и не может противиться инквизитору, хотя на самом деле он достаточно силен, чтобы попытаться украсть микротом Стригалева.
Пасхальность романа В. Дудинцева проявляется в идее, что страдания и даже смерть не властны над добром, которое готово жертвовать собой. Анализируя «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, И. А. Есаулов отмечает, что для средневекового автора проповеди очевидна «пронизанность всей тварной земли духовной божественной энергией» [Есаулов, 2017: 38]. Она очевидна и для ученых героев романа, исследующих природу. В финальном эпизоде, когда Дежкин убегает, чтобы спасти для народа творение Ивана Ильича, он с удивлением ощущает:
«Природа была заодно с Федором Ивановичем. Потому что, тронувшись в свой тайный путь, он выполнял ее материнскую волю…» (569).
Снегопад скрывает его от чужих глаз, а неожиданное падение с косогора уберегает от злых людей, поджидавших его в Москве. Когда Федор Дежкин проявляет решимость идти до конца, все в его судьбе устраивается так, чтобы помочь ему довершить начатое. Более того, в финальных строках третьей части мы видим, как, будучи без сознания, Дежкин крепко удерживает мешок со спасенным картофелем, преодолевая природные законы и поражая материалистов-врачей:
«— Как интере-есно! — изумился врач. — Без сознания ведь мужик! Не поверят, если рассказать…» (574).
Главная, пасхальная мысль романа находит полное воплощение в эпилоге. Так, в его довольно длинном тексте неоднократно говорится о смерти:
«Это было первое лето после смерти Сталина» (1: 575);
«…первая ваша клетка мертвая <…> . Краска в живых клетках занимает только вакуоль. А в мертвых и ядро. Способ отличить живое от мертвого » (1: 592);
«Он увидел смерть , сидевшую в кровати среди подушек» (1: 639);
«Краснов помер …. Вчера схоронили» (1: 624);
«Так, в атмосфере пустоты, притворства и неразрешимых загадок, академик Рядно прожил еще немало лет <…>. …cреди особенно жаркого лета, постепенно цепенея, он наконец замер навечно» (1: 651).
Заканчивается целая эпоха в жизни страны. Умирают герои романа, боровшиеся с добром. Мертвыми оказываются результаты их исследований: от клеток, которые безуспешно пытается изучать предательница Шамкова, до высушенных растений академика Рядно, среди которых он в почти полном одиночестве коротает свои последние месяцы. Но Дудинцев заставляет читателя сопоставить их смерти и смерть настоящих ученых, которых поминают те, кто уцелел среди гонений, а также смерть безымянного солдата, не убежавшего, хотя противники превосходили его по силе. Над прахом этого солдата Борис Порай рассуждает о том, что зло, в том числе инквизиция, рано или поздно отступает перед силами добра, хотя это невозможно объяснить исходя из земных законов. Он делает вывод, что «пока есть живые люди», они «будут страдать» (582), то есть жертвовать собой во имя добра. И в этом проявляется та Благодать, которая стала ключевой категорией русской культуры и словесности.
Главной пасхальной сценой романа становится заключительная сцена эпилога, в которой рассказчик и герои романа, служившие добру: Федор Дежкин, его жена и дети, его соратники Порай и Цвях — собираются за столом, на который подают картошку Ивана Ильича — «белые сияющие шары» (655). Можно отметить, что действие романа начинается в воскресенье, в воскресное утро, и заканчивается в неназванный день, когда, однако, все герои смогли собраться вместе за столом, то есть скорее всего опять-таки в воскресенье. Во время встречи звучат проникновенные слова о черном хлебе, который «создан судьбой» (657), и о картошке: «Сие есть плоть моя» (658). Это слова Христа о хлебе, который Он на последней перед крестными страданиями трапезе подал ученикам, даровав им Таинство Причащения. Здесь белая плоть картошки символизирует Тело Христово, отданное на муки за людей, и подлинное счастье, о котором персонаж романа говорит:
«Счастье — в тебе. Когда положишь свою плоть, чтоб напитать ближних…» (658).
Герои романа и рассказчик, который носит ту же фамилию, что и автор романа, ликуя, едят белоснежную картошку, у которой необыкновенный вкус и которая символизирует собой своего рода Причастие. Говоря о премудро устроившей все природе, человек ХХ в. по сути говорит о Боге, даровавшем людям вечную жизнь, благодаря которой кончина ученого Стригалева и полковника Свешникова в тюремных застенках воспринимается не как трагическая безысходность, а как утверждение добра и Благодати, которой они по мере своих сил послужили. Смертная телесность («И вспоминаешь чьи-то глаза. Чью-то остывающую руку» — 658) переходит в воскресение, в духовное бытие.
Таким образом, в романе В. Дудинцева проявляется характеристика Благодати, обозначенная еще митрополитом Ила-рионом, — Благодать, служащая будущему веку. Здесь жизнь торжествует над смертью не только как биологическое существование, но как добро, задающее вектор духовного развития человека и переводящее наши поступки в духовное измерение. Поэтому на столе появляется именно «белое искрящееся яблоко» (657) картошки, воспринимаемое не как запретный плод, отведав который «люди станут как боги», а как благословенный дар.
Исследуя текст пушкинской оды «Я памятник себе воздвиг…», И. А. Есаулов привлекает внимание читателя к тому, что она представляет собой единственный парафраз Горация, где появляется слово «душа» [Есаулов, 2021: 62]. В эпилоге романа В. Дудинцева тоже звучит это слово, когда Василий Цвях цитирует стихотворение А. Блока. Он говорит о бесконечной «гонке за счастьем» (656), на которую обрек свою душу академик Рядно. Цвях, отрицавший в начале романа веру, в финале вдруг говорит о душе, утверждая: не всякая душа обрекает себя на бессмысленную погоню в пустой, то есть лишенной присутствия Бога, вселенной. Счастье, осмысленность жизни, наполненность ее Божьим присутствием, по мысли Цвяха, зависит от самого человека и его выбора. «Мир нам дан такой, какой он есть. Ни прибавить, ни убавить» (658), — рассуждает Цвях, и его слова представляют собой признание Бога, давшего человеку все, что тому необходимо. Разговор о душе и цели ее существования показывает: овнешнение, о котором шла речь в начале романа, побеждено, герои двинулись по пути обретения души и осмысления ее развития.
Роман В. Дудинцева «Белые одежды», таким образом, продолжает и развивает традиции отечественной литературы, воплощая свойственные ей архетипы — прежде всего пасхаль-ность как победу над смертью и грехом, наполняющую жизнь человека смыслом. Через отказ от мертвящих законнических установок и в равной мере от устремленного к достижению всевозможных выгод Беззакония человек приходит к Благодати, связанной со свободой человека, дарованной ему Богом. Это свобода сознательно принять созданный Богом мир, который изучают герои текста, принять травму страдания за ближнего, о которой герой романа говорит: «Ну что бы была у меня за жизнь без этой травмы?» (658). Как и лучшие произведения классической русской литературы, пасхальный роман В. Дудинцева становится своеобразным ответом на вечные вопросы о мироустройстве.