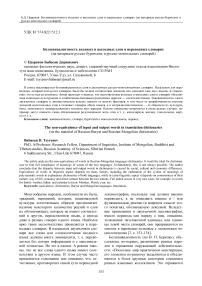Безэквивалентность входных и выходных слов в переводных словарях (на материале русско-бурятских и русско-монгольских словарей)
Автор: Цыренов Бабасан Доржиевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Востоковедение
Статья в выпуске: 10, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется безэквивалентность слов в двуязычных русско-монголоязычных словарях. Идеальным для переводчика, который пользуется словарем, было бы полное соответствие значения или значений слов двух языков. К сожалению, это не всегда возможно. Автор приходит к выводу, что несоответствие входных и ввгходнвк слов в словарях обусловлена социально-культурными и хозяйственно-бытовыми различиями народов - носителей языков. Эквивалентность слов в двуязынных словарях в лингвистическом аспекте зависит от многих факторов, в том числе от разработанности системы значений многозначных слов в толковых словарях обоих языков, а в экстралингвистическом - от общности их культуры, быта, экономики и непосредственного контакта двух народов. Полное совпадение встречается в очень редких случаях, например, могут совпасть слова, обозначающие родственников: мать, отец и т. д., календарную лексику: понедельник, март, год и т. д.
Эквивалентность, словари, бурятский и монгольский языки, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/148182656
IDR: 148182656 | УДК: 81’374.822=512.3
Текст научной статьи Безэквивалентность входных и выходных слов в переводных словарях (на материале русско-бурятских и русско-монгольских словарей)
Многообразие народов, особенности их быта, традиций, верований, истории, национальной культуры естественным образом предполагает наличие некоторого количества реалий и слов их обозначающих, которые не имеют соответствий в другом, неродственном языке, а иногда даже в разных говорах одного языка. Наиболее ярко такое несоответствие проявляется в переводных словарях. В идеальном двуязычном словаре все слова или словосочетания входного языка должны иметь эквиваленты, т. е. переводиться без потери информации и с максимальной точностью. Но это в идеале. А реалии таковы, что не все слова одного языка имеют соответствия в другом языке. В этом случае часто применяется толкование или описание, что, естественно, противоречит самой сути переводной лексикографии, поскольку она должна именно переводить, а не описывать внешне и / или функционально реалию (в широком смысле этого понятия), обозначаемую лексемой. Вследствие применения в двуязычной лексикографии, вместо перевода или наряду с ним, описания, толкования заголовочной единицы, или единицы левой части словарей, они превращаются во многом в переводно-толковые с элементами энциклопедизма [7, c. 153–154].
Безэквивалентность (по В. П. Беркову), обусловлена, во-первых, различиями разных народов в отражении окружающей действительности: «Поскольку мир практически неисчерпаем, его элементы по-разному выделяются и объединяются в более крупные категории сознанием разных языковых коллективов. Это отражается языком: развиваясь стихийно, он не всегда последовательно и полно создает обозначения для всех элементов действительности». Подтверждением данного тезиса является пример со словами, обозначающими понятия ‘брат’ и ‘сестра’: «во многих языках нет слов для понятий ‘брат’ и ‘сестра’, а есть только обозначения понятий ‘старший брат’, ‘младший брат’ и ‘старшая сестра’, ‘младшая сестра’» [1, c. 155]. Данное явление имеет место и в монгольских языках, в которых для обозначения родственных отношений между детьми одних родителей употребляется довольно сложная система: бур. аха, ахай (в южно-бурятских говорах — абгай), монг. ах ‘старший брат; старший’, бур. эгэшэ, абгай (в южно-бурятских говорах — ахай, ад-жаа), монг. ‘старшая сестра; старшая’, но бур., монг. дүү. Слова эти универсальны и могут обозначать и младшего брата, и младшую сестру. В ситуациях, требующих уточнения, они сопровождаются классификаторами: бур. dYY хубуун / басаган, монг. дүү хүү / охин, ‘младший брат / младшая сестра’. Дүү, таким образом, не имеет в своем семном составе семы «указание на пол». Предложение Энэ минии dYY вне контекста может быть переведено двояко: ‘Это мой младший брат’ и ‘Это младшая сестра’, тогда как Энэ минии аха и Энэ минии эгэшэ (бур.) могут быть переведены однозначно: ‘Это мой старший брат’ и ‘Это моя старшая сестра’ [7, с. 154].
Отсутствие эквивалентов также обусловлено отличиями в культуре двух народов: «Отсутствие у лексемы входного языка эквивалента в выходном языке может объясняться различиями в культуре (подчеркнем еще раз, в самом широком смысле слова) между данными языковыми коллективами» [1, с. 155]. Эквивалентность в равной степени относится и к области переводо-ведения, и к области теоретической и практической лексикографии. Причем в теоретической переводной лексикографии она относится к числу сложных вопросов, требующих глубинных семантических исследований лексем входящего языка на предмет членения их значений. В практике принято придерживаться значений, выделенных в одноязычных (преимущественно, толковых) словарях входного языка, а свете темы данной статьи — в словарях русского языка.
При переводе любой литературы (художественной, публицистической, научной, научнопопулярной и т. д.) именно словарь выступает своеобразным «трансформатором», в котором текст-оригинал преобразуется в текст языка перевода. Идеальным для переводческой деятельности было бы полное соответствие слова или словосочетания двух или нескольких языков. Однако В. П. Берков пишет: «Очевидно, случаев, когда слову или словосочетанию одного языка в другом языке соответствует слово или словосочетание, обладающее всеми теми же характеристиками, относительно немного по сравнению со случаями, когда полного соответствия нет» [1, с. 110]. Таким совпадением обладают лишь слова некоторых слоев лексики языка. «И только тот случай, когда совершенно однозначной слову подлинника находится твердое однозначное же (при разных контекстах) соответствие — относительно более редок; такая однозначность возможна в принципе по отношению к определенным слоям лексики — к терминам, к обозначениям календарных понятий (названия месяцев, дней недели), к некоторым именам родства (например, fills, son, Sohn — сын; fille, daughter, Tochter — дочь; neveu, Neffe — племянник), к некоторым названиям животных и общеупотребительных предметов, к личным местоимениям» [2, с. 134].
В любом случае, пользователь, переводчик вправе требовать учета всех значений, семантических нюансов слова исходного языка и отражения их в переводном (выходном) языке. Это, естественно, труднодостижимая (а во многих случаях недостижимая) цель. Тем не менее, В. П. Берков предлагает: «Если в общем виде сформулировать требования, которые целесообразно предъявлять к словарному эквиваленту, то они будут весьма просты: в идеале переводящий эквивалент (для данного значения многоязычного* слова) должен сообщать всю ту и только ту информацию, которую сообщает переводимое слово, т. е. совпадать с ним по всем характеристикам. Теоретически такой идеальный эквивалент вообще невозможен, а на практике достаточно хорошее приближение к этому идеалу также случай нечастый. <…> Конечно, если оптимальная передача лексического значения должна быть признана основным требованием к эквиваленту, то переводящий эквивалент, более или менее адекватно передающий лексическое значение переводимого слова, может настолько резко расходиться с переводимым словом по другим характеристикам, что общая его адекватность будет весьма сомнительна» [1, с. 112–113].
Особенности эквивалентной передачи слов в русско-монголоязычных словарях попытаемся рассмотреть на примере глагола «идти». Бесспорным, прямым эквивалентом слова «идти» будет бур. ябаха и монг. явах ‘передвигаться,
Тут, видимо, описка, должно быть — многозначного.
переступая ногами’ [6, с. 205–206]. У бурят, как и у монголов, в прошлом перемещение в пространстве было сопряжено именно с передвижением на ногах, будь то ходьба, будь езда верхом. Передача же других значений русского глагола «идти» осуществляется уже другими бурятскими (монгольскими, общемонгольскими) глаголами.
Другие же значения глагола «идти» требуют совершенно иных эквивалентов, сообразно общему и частному контексту, в том числе «направляться, отправляться куда-либо, с какой-либо целью » — ошохо, ерэхэ (РБС), в этом случае все русско-монголоязычные словари единодушны (ср. монг. очих, ирэх ). Далее с определенными оговорками по порядку нумерации значений совпадают значения «простираться, пролегать; иметь то или иное направление» в СРЯ и РБС–08 — үнгэрхэ, нэбтэ гараха , в РБС– 54 и РМС–82 ошохо, гараха и нэвт гараха, шувт өнгөрөх , соответственно. Совпадение порядка следования передачи значений в РБС–54 и РМС–82 легко объяснимо тем, что составители при подборе словника своего словаря ориентировались на РБС–54. Эквиваленты остальных 22 значений глагола «идти» получают хотя и семантически близкие, но иерархически разные порядковые места, например: «лить, падать (об осадках)» — в РБС–54: орохо (снег), РБС-08: орохо, унаха, РМС–82: орох, унах . При этом следует заметить, что глагол унаха как в бурятском языке, так и в монгольском, скорее, калька, нежели собственная лексема. Этот глагол более употребителен к инею — хюруу унаха (бур.), хяруу унах (монг.), нежели к снегу, ср.: снег упал / выпал – саһан ороо, цас унав .
Так же в той или иной степени калькироваи-ем можно объяснить передачу значения «иметь место, происходить, совершаться / исполняться, ставиться (о пьесе, спектакле и т. д.)» глаголами табигдаха, наадагдаха (РБС–08). Появление глагола табигдаха (букв. ставиться) в этом значении в русско-бурятском словаре 2008 года издания (в отличие от РБС–54, где только гараха ‘выходить, выпускаться’) в большей степени объясняется активным употреблением калькированных слов и выражений в современном бурятском языке. То же и со словом наадагдаха — букв. играться → играть, ср.: Сегодня в оперном идет «Севильский цирюльник» ‘Мүнөөдэр опер-нодо «Севильский цирюльник» наадагдана’. Хотя данная форма не употребляется в живой разговорной речи, здесь более уместно выражение: «Севильский цирюльник» харуулагдана или гарана.
«В очень большом числе случаев, конечно, значение переводного слова может быть переда- но лишь несколькими эквивалентами. <…> Ситуация, когда слово одного языка может быть передано лишь совокупностью эквивалентов другого языка, объясняется тем, что языки обладают разными уровнями специфичности. <…> Характерно, что в теории лексикографии поставлен вопрос о том, что когда сумма частичных и связанных эквивалентов не обладают наглядной общностью, их необходимо снабдить объяснительным толкованием, однако в практике двуязычной лексикографии этот прием используется очень редко» [1, с. 119–120].
При составлении иноязычно-родных словарей, в данном случае русско-монголоязычных, номенклатура значений входного (русского) языка обусловливается рядом факторов, в котором немалое место занимает волюнтаризм (как в позитивном, так и в негативном понимании этого слова). Так, РБС–54 основан на словнике, составленном Государственным издательством иностранных и национальных словарей под редакцией Т. Г. Брянцевой [4, с. 5]. Немалую роль играет и субъективизм составителей. Так, в РБС–08 представлено 25 значений глагола «идти», столько же, сколько и в четырехтомном Словаре русского языка, но, тем не менее, не представлены значения «длиться, продолжаться ( идет 1957 год ) и оттенок этого значения, касающийся возраста ( идет второй год — ребенку)», значение «вступать в брак (о женщине — идти замуж )», «начинать что-либо, пускаться во что-либо ( идти в пляс )», «иметь что-либо своим содержанием, касаться чего-либо ( о разговоре, споре и т.п.)». Между тем, в отдельное значение выделено устойчивое сочетание «идти ко дну». Эта практика «тянется» с РБС–54: 6 . ( ко дну ) шэнгэхэ, шэнгэжэ ябаха; в РМС–82: 8 . жи-вэх, чивэх, лодка идет ко дну завь живж байна ; в РБС–08: 24 . шэнгэхэ; лодка идет ко дну онгосо шэнгэбэ . Здесь налицо подмена образного значения прямым: идти ко дну — терпеть фиаско, крах, неудачу. Ср.: Завод идет ко дну — завод не выполнил свои обязательства, показал свою финансовую несостоятельность и прекращает свою деятельность.
Влияние политического курса страны на словари очень ясно видно на лексикографических примерах. Например, в РБС–54: 4. перен. ошожо ябаха, ошохо, ябаха; наша страна идет к коммунизму манай орон коммунизм тээшэ ошожо ябана; РМС–82: 4. хүрэх, явах; наша страна идет к коммунизму манай орон эв хамтад хүрэх гэж явна. В РБС–08 по вполне понятным причинам подобных примеров нет, как и нет выделенного значения этого глагола. Хотя владеющим бурятским и монгольским языками совершенно ясно, что получается не совсем точный перевод значения глагола «идти» — стремиться. В таком случае более уместен перевод — тэгүүлхэ (бур.) и тэгүүлэх (монг.). Далеко не всегда, однако, причиной того, что словарь предлагает читателю необобщенный набор частичных эквивалентов, является отсутствие обобщающего перевода в выходном языке словаря. По-видимому, очень часто источником неоправданного дробления значения переводимого слова, представления всех или части конкретных частных реализаций вместо общего значения являются толковые словари переводимого языка, используемые при составлении двуязычных словарей.
Номенклатура эквивалентов значений глагола «идти» в РБС–08 в целом, представлена следующими глаголами и глагольными словосочетаниями бурятского языка: ябаха, хатарха, гYйхэ, ошохо, ерэхэ, XYдэлхэ, дабхиха, дYтэлхэ, ойртохо, орохо, унаха, таараха, зохихо, унгэрхэ, эльгээгдэхэ, дамжаха, XYрэхэ, унгэрхэ, нэбтэ гараха, ходо гараха, бааяха, адхарха, ябадал хэ-хэ, хэрэглэгдэхэ, дахаха, хойноhоо ябаха, элсэхэ, гуйсэтэй байха, тараха, хангалтаха, гутаха, орохо, зоолдохо, багтаха, табигдаха, наадагда-ха, тYлэгдэхэ, тYлбэрилэгдэхэ, ЗYбшвeхэ, бYтэхэ, бYтэмжэтэй байха, гоожохо, шэнгэхэ, хорохо, татаха, доошолхо - итого 46 глаголов и глагольных словосочетаний. В РМС–82 представлены следующие эквиваленты: явах, очих, хедлех, ирэх, ойртох, XYрэж явах, хойноос нь явах, дагах, мереернь явах, замнах, явах, ажил-лах, орох, унах, живэх, чивэх, гоожих, орох, багтах, нэвт гарах, шувт енгерех, гарах, баа-гих, анхилах, гутах, гарах, тархах, явах, гарах, орох, хэрэглэгдэх, таарах, тохирох, зохих, гарах, YЗYYлэх, бYтэх, хийх, болох, орох, эхлэх, явах, гYйлгеетэй байх, гYйх, енгерех (повторяющиеся эквиваленты, например, явах , отличаются сочетаемостью и небольшими семантическими оттенками).
Среди лексикографов от теории бытует мнение, что избыточность переводных эквивалентов является отрицательной характеристикой слова- ря. Однако в случае, когда входной и выходной языки и генеалогически, и типологически далеки друг от друга, равно как и народы-носители их далеки по исконному традиционному быту, культуре, истории, хозяйственно-экономическому укладу, такое решение данной проблемы кажется оптимальным. В этом плане мы согласны с В. Н. Крупновым, который пишет: «Во избежание неясностей или недоразумений надо четко оговорить, что даже знаменательное слово, не говоря уже о словах служебных, не является постоянной самостоятельной единицей перевода. Смысл слова не автономен, он зависит как в оригинале, так и в переводе от контекста, проясняется в контексте (иногда – достаточно широком), и это всегда учитывается сколько-нибудь опытным и внимательным переводчиком. И нередки случаи, когда одно слово оригинала передается на другом языке сочетанием двух или нескольких слов или когда сочетание двух или нескольких знаменательных слов передается одним словом, или когда слово подлинника (притом полнозначное – даже термин) в переводе опускается, будучи ясным из предыдущего текста, или передается местоимением или, наконец, когда местоимение передается полнозначным существительным» [2, с. 133].
В этой работе мы рассмотрели безэквива-лентность входных и выходных слов в русско-бурятском и русско-монгольском. Естественно, небольшой объем статьи не позволяет изучить все случаи этого явления. Тем не менее, на примере слова «идти» показаны наиболее существенные расхождения входного и выходного слова в словарях. Дальнейшее развитие русско-монголоязычной лексикографии, а также развитие самих монгольских языков, развитие семантической структуры слов этих языков, как нам кажется, позволит определить, расширить возможности подбора эквивалентов, не только увеличением их числа, но и оптимальным использованием лексического значения слова выходного языка, отработать вопросы их функциональной и стилистической дифференциации, адекватной передачи фразеологических единиц.
Список литературы Безэквивалентность входных и выходных слов в переводных словарях (на материале русско-бурятских и русско-монгольских словарей)
- Берков В. П. Слово в двуяз^гчном словаре. -Таллин, 1977. -140 с.
- Крупнов В. Н. Лексикографические аспекты перевода. -М.: Высшая школа, 1987. -192 с.
- СРЯ -Словарь русского языжа/сост. С. И. Ожегов. -М., 1989. -797 с.
- РБС-08 -Русско-бурятский словарь/под ред. С. Д. Намсараева. -Улан-Удэ, 2008. -904 с.
- РБС-54 -Русско-бурятский словарь/под ред. Ц. Б. Цыдендамбаева. -М: Изд-во иностр. и национ. словарей, 1954. -752 с.
- РМС-82 -Русско-монгольский словарь/сост. Ц. Дамдинсурэн, А. Лувсандэндэв. -Улан-Батор, 1982. -840 с.
- Цыренов Б. Д. Монголоязыино-русская лексикография (структура, принципы, семантизация). -Улан-Удэ: Бэлиг, 2013. -208 с.