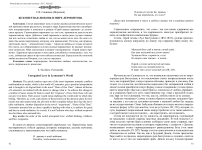Безответная любовь в мире Лермонтова
Автор: Савинков Сергей Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 3 (42), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья затрагивает одну из самых важных романтических коллизий противостояния реальности, которая в мире Лермонтова получает своеобразную интерпретацию и доводится в романе «Герой нашего времени» до логического предела. Стремлением переменить то, что есть, проникнуты едва ли не все лермонтовские герои. Добиться такой перемены в целом ряде случаев означает для них достичь «ответной» любви от тех, кто не может им ее дать. Их ответ означал бы вызов миропорядку, которому они принадлежат. Поэтому, как правило, притязания таких - демонического плана - героев на любовь не только остаются без ответа, но и оборачиваются для них полным поражением: их ожидает неминуемое возмездие. Иная диспозиция в романе-«эксперименте» «Герой нашего времени». Лермонтов представляет в нем героя, способного в отношениях с тем, что есть, добиваться своего и при этом избегать возмездия. В результате без ответной любви остается не Печорин, а те, кто его окружает.
Миропорядок, безответная любовь, мечтательство, дикость, жертвенность, возмездие
Короткий адрес: https://sciup.org/14914642
IDR: 14914642
Текст научной статьи Безответная любовь в мире Лермонтова
В одном из ранних стихотворений лирическое «я» Лермонтова, видя неотвратимость гибели деревца, которому поверялись детские мечтания, сталкивается с невозможностью что-либо изменить:
И деревцо с моей любовью Погибло, чтобы вновь не цвесть,
Я жизнь его купил бы кровью, -Но как переменить, что есть?1
(Далее при цитировании в тексте в скобках указаны том и страница данного издания.)
Стремлением «переменить, что есть», так или иначе одержимы все лермонтовские мечтатели, и эта одержимость зачастую приобретает отнюдь не инфантильно-ювенильные формы.
Селим, герой поэмы «Аул Бастунджи» (1832-1833), полная противоположность своему живущему по закону гор старшему брату-воину Ак-булату:
Меньшой был слаб и нежен с юный дней, Как цвет весенний под лучом заката! Чуждался битв, и крови он, и зла, Но искра в нем таилась... и ждала...
Порой, в степи застигнутый мечтами, Один сидел до поздней ночи он, И вкруг него летал чудесный сон (III, 245).
Мечтательство Селима есть то, что изначально исключает его из миропорядка аула Бастунджи, и это исключение станет непреодолимым после того, как старший брат, следуя горским обычаям, приведет в дом жену. Как только это случается, мечтательство выросшего без материнской любви и ласки Селима приобретает иную форму, и иное содержание. Селим проникается запретной страстью к жене брата и, изнемогая от любви, обращается к старшему брату (по сути, заместившему ему отца) с просьбой отдать ему Зару на том основании, что так, как он, любить никто ее не сможет.
Акбулат отказывает Селиму и таким образом оставляет младшего брата наедине с его уже не детскими мечтами о женской любви без надежд на их осуществление. Отказ Акбулата облекается в такую жестко-утвердительную форму («Что дал мне Бог, того не уступлю», III, 254), которая, по сути, выражает непреложный закон мироустройства: есть такая данность, с которой ничего нельзя поделать - ни перестроить, ни подменить.
Селим же покушается на эту данность, на миропорядок, основанный на традициях «гордой старины заветных преданий». В этой попытке Селима восстать против брата (лениво любящего свою жену старика), против его всевластия несложно усмотреть перекличку с сюжетом о Демоне, возжелавшем отнять «принадлежащую» равнодушному Богу («он занят небом, не землей», IV, 207) Тамару и стать единоличным и полновластным обладателем ее любви. Так же, как и будущий Демон, Селим предлагает Заре выйти за пределы миропорядка аула Бастунджи и основать свой ни от кого и ни от чего не зависящий «рай». Демон посылу Селима придает абсолютное выражение: он предлагает Тамаре надмирную любовь и надмирное бытие:
Без сожаленья, без участья Смотреть на землю станешь ты, Где нет ни истинного счастья, Ни долговечной красоты, Где преступленья лишь да казни, Где страсти мелкой только жить; Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить (IV, 209).
Зара отказывает Селиму, и прежде всего потому, что миропорядок, которому она принадлежит, обязывает ее хранить честь своего отца: «Я дочь его и честь его храню: Умру, погибну - но не изменю» (III, 260). Одержимой мечте Селима присвоить себе то, что ему принадлежать не может, Зара противопоставляет другое устремление: сохранить неизменным то, что есть.
Не дождавшись от Зары ответной любви, Селим убивает ее, и это злодеяние совершается уже не мечтательным юношей, а едва ли не диким зверем, для которого ничто не может стать преградой на пути его хищной воли. Отделив себя от аула Бастунджи и противопоставив ему себя, Селим встает на путь одичания: он начинает жить и вести себя как дикий зверь: «Мой дом изрыт в расселинах скалы: В нем до меня два барса дружно жили. Узнав пришельца, голодны и злы, Они, воспрянув, бросились, за-выли... Я их убил... И кожи их у входа, по бокам, Висят, как тени, в страх другим зверям» (III, 258).
Мечтательство (в лермонтовской редакции трактуемое и как страстнодеятельное желание невозможного) - есть то, что отрывает того, кто ему предается, от мира, и этот отрыв у Лермонтова может быть направлен и в сторону идеала, и в противоположную ему сторону Точнее сказать, в том случае, если движение в сторону идеала не достигает цели (а идеал нельзя достигнуть по определению), мечтательство может побудить к действиям, на которые способен лишь тот, кто одержим звериной дикостью. Дикость оказывается оборотной стороной мечтательства потому, что имеет с ним общее основание. И то и другое игнорирует то, что есть, отказывая ему в праве на отдельное, независимое существование. Хищный зверь смотрит на свою жертву лишь как на то, что может утолить его животную потребность в насыщении. Мечтатель смотрит на реальность как на то, что должно стать жертвой его мечтательской одержимости. Хищник может утолить животный голод плотью своей жертвы; мечтатель, не имея возможности утолить свой мечтательский голод тем, что есть, начинает его уничтожать. И хищник, и мечтатель уничтожают то, что есть. Но если хищник способен, пусть и на время, насыщаться тем, что есть, мечтателя ждет только истощение, потому что реальное никогда не сможет стать для него дающей насыщение пищей.
Хищник смотрит на то, что есть, как на жертву, у которой есть только одно назначение - служить ему пищей. Для мечтателя то, что есть, также лишается самостоятельного значения: он эту данность либо игнорирует, либо «примешивает» к ней то, чем она не обладает. Так, к любви Вадима («Вадим», 1832-1834) к сестре примешивается воображение, а «если к ней примешивается воображение, то - как замечает повествователь - горе несчастному!..» (VI, 30). В результате такого вмешательства братская любовь Вадима к Ольге превращается в любовь запретную и маниакальную; созданный в его воображении идеальный образ и действительное лицо перестают различаться и потому «тщеславно» рассматриваются в качестве исключительно ему принадлежащей собственности.
Проникнутый маниакальной ненавистью ко всему миру Горбун питает надежду на ответную любовь сестры. Эта любовь оправдала бы его отверженное существование и сгладила его безобразные черты. Ольга же отвечает на любовь того, кого она не должна любить - сына убийцы ее отца. Она отвечает любовью тому, кто красив и благороден, и эти красота и благородство не есть плод мечтаний и воображения, а есть то, что есть.
Вадиму не удается привить Ольге ненависть к Юрию, сделать так, чтобы она, глядя на Юрия, видела не его красоту и благородство, а подпитанное ненавистью и воображением уродство. В настоящем бытии уродство есть уродство, а красота есть красота. Придет час, и некогда очарованная сумеречной красотой Демона Тамара увидит своего обольстителя в его истинном виде:
Пред нею снова он стоял, Но, боже! - кто б его узнал? Каким смотрел он злобным взглядом, Как полон был смертельным ядом Вражды, не знающей конца, -И веяло могильным хладом От неподвижного лица (IV, 215).
Заметим, что лермонтовские мечтатели во что бы то ни стало хотят добиться ответной любви, и если бы это им удалось, то и мир бы с неизбежностью переменился.
Степан Калашников идет на смертный бой даже не за жену, а за требующую сохранения и охранения семейную честь. Кирибеевич же смотрит на Алену Дмитриевну так, как если бы она была одна и не имела никаких связей и отношений: он как бы не видит и не хочет видеть, что она дочь своего отца, что она сестра своих братьев, что она жена своего мужа. И что эти связи и отношения есть то, что есть, есть такая данность, с которыми нельзя не считаться. Калашников сражается за сохранение того, что есть, а Кирибеевич - против того, что есть. Кирибеевич нарушает порядок вещей. Он не может поступить так, как ему советует царь: прислать дары, а потом, если полюбится, свататься. Он поступает с Аленой Дмитриевной так же, как Демон с Тамарой: обещает чудеса и власть над миром в обмен на любовь3.
В отличие от Демона, Бога уже есть за что любить - за то, что он создал мир. Демон же предлагает Тамаре полюбить его за то, чего пока нет, но при определенных условиях будет. Предлагать в обмен на любовь то, чего нет, но чего бы очень желалось - занятие обольстителя, который и обольщает для того, чтобы, добившись своего, забыть о своих обещаниях. В то же время поэма дает основание считать, что цель Демона не обольщение Тамары, а месть Богу, которую он хочет осуществить с помощью Тамары. Неоспоримым фактом свершившейся мести стало бы его перерождение. А само это перерождение стало бы доказательством возможности изменить то, что есть, вопреки воле Творца, обстоятельств, закона мироустройства.
Кстати говоря, идея внутреннего изменения связывает Демона и Селима, но обратной логикой. Селим, не достигнув цели, превращается в зверя, а Демон - не превращается в ангела. Перерождение Селима оказывается разрушительным для мира, а перерождение Демона (чисто гипотетически) могло бы стать основанием для его созидания на новых началах. И хотя Демон переродиться не может (по лермонтовской логике изменение необратимо4), тем не менее, сама идея, что изменения мира возможно достичь посредством внутреннего изменения того, кто этого желает, для Лермонтова была одной из тех, которая определяла глобальную нарративную программу его творческого поиска. Об этом далее еще будет сказано. Теперь же необходимо сконцентрировать внимание на том, что факты свершившегося (у Селима) и не свершившегося (у Демона) внутреннего изменения были подготовлены разными историями. В определенном смысле более существенно даже не то, что эти истории разные, а то, что они у них есть, как есть они и у Вадима, и у Кирибеевича. Само наличие «биографии» у каждого из этих персонажей тоже оказывается такой для них данностью, которую они не в силах переменить: Селим не может отменить то обстоятельство, что его рождение стало причиной смерти его матери; Кирибеевич не может излечить себя от того своеволия, которое ему привили на службе в царских опричниках; Демон не может выбросить из своей биографии событие изгнания из рая и т.д. При этом, однако, у этих разных «биографий» есть общая точка схождения: неминуемое возмездие за покушение на то, что есть.
Иное дело - Печорин. В отличие от его предшественников, у «героя времени» истории как бы и нет - нет такой истории, события которой образовывали бы некую причинно-следственную связь3. Н.Д. Тамарченко заметил, что отсутствие сюжетных связей между разными печоринскими историями (фактор, отрицающий возможность биографии) «выражается еще и в том, что в каждой из них у героя особое прошлое, соответствующее особому настоящему. Так, если отношения Печорина с Бэлой выглядят попыткой разочарованного героя обрести гармонию с миром в любви, то ее неудача подготовлена цепью аналогичных попыток и неудач в про- шлом. В “Княжне Мери” отношения Печорина с женщинами строятся в настоящем совершенно иначе - на стремлении полностью подчинить другого человека своей воле. И этому настоящему соответствует совсем иное прошлое, в частности, роман с Верой»5.
То обстоятельство, что за спиной Печорина как бы не одна, а множество историй может рассматриваться и в качестве свидетельства того, что «герой времени» сумел приобрести независимое положение от того, что есть, а вместе с ним - и возможность ничем ему не жертвовать и при этом все от него получать. Складывается впечатление, что Печорин умеет в нужный момент переключаться с одной истории на другую, учитывая причинно-следственную конфигурацию каждой из них и словно зная наперед, что может при том или ином раскладе его ожидать6.
Отгороженность Печорина от того, что есть, имеет несколько уровней защиты, и базовый среди них - интеллектуальный. Печорин наделен аналитическим умом, позволяющим ему с холодным бесстрастием (а значит - отстраненно) оценивать ту или иную ситуацию без привлечения провоцирующих на сближение с действительностью эмоций. Кстати говоря, способность Печорина к аналитической рефлексии оказывается в генетическом родстве с мечтательским фазисом печоринской «первой молодости».
Переход от мечтательства к комбинаторному рационализму может быть объяснен таким образом: отрыв мечтателя от того, что есть, приводит его к «зацикленности» на себе, она запускает механизм рефлексии, а рефлексия лишает действительность ценностной, этической значимости. Печорин и в самом деле не затрудняет себя различением добра и зла. Правда, видимо, по старой мечтательской памяти Печорину по-прежнему остается важной эстетическая сторона дела: «радужные» и «мрачные образы», которые некогда волновали его воображение и лишили его необходимого для действительной жизни постоянства воли (требующегося как раз для укорененных отношений с миром в этической сфере), до сих пор заставляют его время от времени придавать тому, что есть, романтический антураж.
Если все же попытаться реконструировать историю Печорина, то это история о том, как переживший себя мечтатель превращается в существо, парадоксальным образом сочетающее холодного и бесстрастного аналитика и одержимого страстью преследования жертвы хищника (второе - то, что досталось в наследство «герою времени» от таких переродившихся мечтателей, как Селим из поэмы Аул Бастунджи). В черновых материалах к «Герою нашего времени» Лермонтов, говоря о физическом характере своего героя, уподобит Печорина тигру (он «то ласковый, гибкий, уклончивый, игривый, то жестокий и бешеный, и всегда мрачно убегающий общества себе подобных», VI, 568-569) следующему исключительно внушению минуты. В отличие от своих предшественников Печорин не одержим идеей перемены того, что есть. Он научился использовать то, что есть, в своих целях, играть с ним - как нередко поступает хищник со своей жертвой - «в кошки мышки»7 и как вампир8 подпитываться его жизненной энергией, и как либертин9 владеть искусством его беспроигрышного обольщения.
Интеллектуальное всезнание в сочетании с хищнической азартностью и привычкой к эстетству - все это вместе, по отдельности и в разных комбинациях представляет основные параметры его эгоцентричной - артистичной, нарциссической10 и женской11 - природы, которая дает «герою времени» возможность не иметь какой бы то ни было зависимости от того, что есть, а вместе с этим - и возможность, ничем не жертвуя, получать все, что пожелаешь. Селим, Кирибеевич, Демон искали в ответной любви (пусть и не всегда осознанно) возможность изменения миропорядка, у Печорина такой установки нет. Находясь в стороне от того, что есть, «герой времени» приобретает возможность манипулировать другими, разыгрывая с ними разножанровые спектакли, в которых себе он отводит роль одновременно и режиссера и действующего лица, но такого, который не должен окончательно включиться в сюжетные перипетии. Ответная любовь с его стороны разрушила бы установленные им правила игры. Но дело не только в этом. Если для печоринских предшественников ответная любовь к ним была бы знаком изменившегося миропорядка, то ответная любовь со стороны Печорина стала бы знаком коренного изменения его собственной природы. Поэтому, как только Печорин начинает подозревать возможность своей включенности в некие требующие от него самоотдачи - дружеские или любовные - отношения (неизбежно сопряженные с определенного рода зависимостью), душа его тут же охлаждается («мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова... свободы моей не продам...», VI, 313-314).
Невольная боязнь, сжимающая сердце при мысли о неизбежном конце, о которой Печорин говорит в «Фаталисте», оказывается тесным образом связанной для него с возможностью стать непосредственным участником событий. Окончательно вовлечься в провоцируемые им как сочинителем драматические перипетии для Печорина означало бы подчиниться логике их развертывания - от начала к концу, а, следовательно, - самому этого конца с неизбежностью достигнуть. Во избежание этого он и «предпочитает» участвовать в развязке чужих драм в качестве топора и камня. Включиться в событие - ответить любовью на любовь - означало бы для Печорина пересечь некую роковую черту и испытать возмездие от того, что есть, от того, что обретается за пределами жизни как прочитанной книги.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-04-00498.
Список литературы Безответная любовь в мире Лермонтова
- Коровин В.Л. О библейских мотивах в лермонтовском «Демоне» в связи с его творческой историей: (от Байрона -к Мильтону)//Литературоведческий журнал. 2014. № 35. С. 18-34.
- Савинков С.В. Творческая логика Лермонтова. Воронеж, 2004. С. 82-85.
- Дрозда М. Повествовательная структура «Героя нашего времени»//М.Ю. Лермонтов: pro et contra. Т. 2. СПб., 2014. С. 345-346.
- Тамарченко Н.Д. Русский классический роман XIX века. Проблемы поэтики и типологии жанра. М., 1997. С. 139.
- Савинков С.В. Творческая логика Лермонтова. Воронеж, 2004. С. 240-250
- Шмид В. О новаторстве лермонтовского психологизма//М.Ю. Лермонтов: pro et contra. Т. 2. СПб., 2014. С. 476-478.
- Савинков С.В., Фаустов А.А. Печорин как «странный» человек…: «вампирический» элемент в романе «Герой нашего времени»//М.Ю. Лермонтов: pro et contra. Т. 2. СПб., 2014. С. 584-603.
- Геллер Л.М. Печоринское либертинство//М.Ю. Лермонтов: pro et contra. Т. 2. СПб., 2014. С. 558-571.
- Фаустов А.А. Вслед за «Парусом»: самоидентификация субъекта в лирике Лермонтова//Диалог согласия/под ред. О.В. Федуниной и Ю.Л. Троицкого. М., 2015. С. 260-266.
- Ханзен-Лёве Оге А. Печорин как женщина и лошадь в романе-эксперименте Лермонтова//М.Ю. Лермонтов: pro et contra. Т. 2. СПб., 2014. С. 526-557.