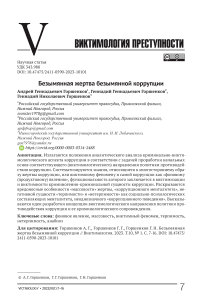Безымянная жертва безымянной коррупции
Автор: Горшенков А. Г., Горшенков Г. Г., Горшенков Г. Н.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Виктимология преступности
Статья в выпуске: 1 т.10, 2023 года.
Бесплатный доступ
Излагаются положения аналитического анализа криминально-виктимологического аспекта коррупции в соответствии с задачей проработки начальных основ соответствующего (виктимологического) направления политики противодействия коррупции. Систематизируются знания, относящиеся к многостороннему образу жертвы коррупции, или виктимному феномену и самой коррупции как «фоновому (продуктовому) явлению», функциональность которого заключается в виктимизации и виктимности криминогенно-криминальной сущности коррупции. Раскрываются вредоносные особенности «массовости» жертвы, «коррупционного менталитета», негативной сущности «терпимости» и «нетерпимости» как социально-психологических составляющих менталитета, неоднозначного «коррупционного поведения». Высказываются идеи разработки концепции виктимологического направления политики противодействия коррупции и ее криминологического сопровождения.
Фоновое явление, массовость, виктимный феномен, терпимость, нетерпимость, анабиоз
Короткий адрес: https://sciup.org/14127236
IDR: 14127236 | УДК: 343.988 | DOI: 10.47475/2411-0590-2023-10101
Текст научной статьи Безымянная жертва безымянной коррупции
Предполагается раскрыть сущность и содержание виктимологического аспекта коррупции для перспективной разработки концепции одного из приоритетных направлений политики противодействия коррупции, которое определяется как виктимологиче-ское. В широком значении суть проблемы заключается в обеспечении антикоррупционной безопасности физических и юридических лиц путем активизации прежде всего их правоосознанного поведения, Мы намеренно употребляем этот термин, означающий неинтуитивное, высокосознательнное, активное правовое поведение, в отличие от менее строгого термина правопослушное. Это пассивное правовое поведение субъекта, покорно отдающегося во власть права и наряду с этим терпимо относящегося к тем, кто игнорирует эту власть. В их числе— многомиллионная масса жертв коррупции, именно коррупции, а не только коррупционных правонарушений, носителей негативного менталитета, питающего коррупцию.
Но массовая виктимность в обществе выступает не только мощным коррупцио-генным фактором, но и потенциальна общественной опасностью, ибо терпение коррупции не беспредельно, да еще под политико-управленческим воздействием, призванным формировать другое, не лучшее чувство— нетерпимости к коррупционному поведению, с которым люди в большей части отождествляют далеко не рядовых граждан.
Во всем этом важно разбираться, прежде всего, тем, кто определяет и реализует политику противодействия коррупции.
Описание исследования
В нем определим своего рода узел проблем, в качестве которых находим: безымянную жертву, безымянную коррупцию, обоюдоострую проблему терпимости и не менее противоречивую проблему нетерпимости.
«Безымянная жертва». Те есть жертва без имени. Разумеется, речь идет не о конкретной жертве (например, убийства), имя которой не установлено, а о жертве, которая не известна, т. е. латентна. Причем, в контексте статьи имеется в виду не только индивидуальные жертвы, но и масса лиц (физических и юридических), оказавшаяся (прямой или косвенной) жертвой преступления, либо обреченная на подобную участь (потенциальная жертва).
В эту массу лиц следует включить и тех, кто пострадал от так называемой политизации зла , под которой мы понимаем доминант политической целесообразности в правоприменении, например, необоснованного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, привлечения к уголовной ответственности, преувеличения меры наказания, неоправданного наказания, отбывания им наказания в местах лишения свободы, претерпевания всего этого…
В данном случае можно привести пример, по выражению адвоката Н. Гаспаряна, такую «ахиллесову пяту» отечественного правосудия, как, мягко говоря, сдержанное отношение к оправдательным приговорам. Доля таких приговоров на протяжении многих лет составляет меньше одного процента (0,28 % — в 2021 г.). А вот процент оправданий народных судей (судов присяжных) составляет 32 %. Таким образом, показатель народных судей превышает показатель судей в мантиях в 114 раз 1 . Правда, в 2022 году этот показатель снизился и составил 27 %. Отменены обвинительные приговоры в отношении 132 лиц 2 .
В связи с этим, выступая на недавнем (14 февраля 2023 г.) ежегодном совещании судей, заместитель председателя
Верховного Суда России В. А. Давыдов обратил внимание судей на необходимость «понимать, что решение об оправдании— это нормальный результат» и призвал судей первой инстанции «не бояться применять такое решение» 3 . Кроме этого В. А. Давыдов критически высказался по поводу постоянного удовлетворения ходатайств о продлении сроков ареста, которые нередко носят немотивированный характер 4 .
Также было обращено внимание судей на невероятно большой процент рассмотрения уголовных дел в особом порядке — 95 %. А это говорит о том, что не проверяется обоснованность обвинения , в итоге «процессуальная экономия подменяет правосудие» 5 . А обвиняемый (вовсе не обязательно виновный), высчитывает лучшую для себя позицию и принимая во внимание консервативную установку суда на неприемлемость оправдательного приговора, «сдается на милость победителя», подыгрывая ему в состязательном процессе. И, разумеется, получает снисходительно-доброжелательное решение о щадящем (чаще условном) наказании.
Надо сказать, в этом общетеоретическом рассмотрении темы не имеет принципиального значения то, каким (коррупционным, не коррупционным) преступлением причинен имущественный или моральный вред.
У юридического лица, образно говоря, бьется тоже живое сердце — физических лиц, представляющих коллективное, организованное единство. И каждый в этом коллективе оказывается либо жертвой преступления, претерпевающей имущественный вред, вред, причиненный деловой репутации, либо потенциальной жертвой, ввиду очевидного виктимогенного риска, т. е. наличия условий, в которых «просматривается» явная возможность преступного посягательства на то или иное юридическое лицо.
«Безымянная жертва», таким образом, представляется нам как некий обезличенный виктимный феномен , т. е. «лишённый индивидуальных особенностей, свойственных отдельной личности, не учитывающий их» 1 , которым охвачены все возможные реальные и потенциальные (прямые ли косвенные) жертвы. И, причем, не только жертвы преступления, но и жертвы некорректной , а то и незаконной правоприменительной практики в области уголовной юстиции.
Безымянная коррупция . А теперь несколько вводных мыслей о «безымянной коррупции». «Безымянной» она представляется в том же аналогичном случае как максимально абстрагированная категория, т. е. лишенная каких-либо особенных, конкретизирующих признаков-имен — «бытовая», «деловая», «экономическая», «политическая» и т. п.
Дело в том, что мы рассматриваем коррупцию, во-первых , как фоновое (фон: от лат. fundo — основать, заложить; fundus— дно, земля) явление, основу , или почву, благоприятствующую формированию коррупционного поведения, или преступности. Можно сказать, фоновое явление — это, иными словами, продуктовый фон преступности . Такой фон наиболее выразительно проявляется в негативном нравственно-правовом менталитете . Данной проблеме мы тоже уделим внимание.
Во-вторых, это соответствующий фоновый продукт (не путать с компьютерной графикой), зловредность которого в наибольшей степени выражается в коррупционной преступности.
Проблема «безымянной» жертвы наводит на мысль, прежде всего, не о сущности данного феномена (об этом порассуждаем ниже), а о том, что являет оно собой (внешне).
Пространное (абстрактное) представление о безымянной жертве складывается в нашем воображении на формально-логической основе. И здесь одним из системообразующих признаков рассматриваемой категории буквально заявляет о себе массовость. «Массовый» означает «свойственный массе людей», «производимый в большом количестве, распространяющийся на множество, многих» [9].
Под «свойственным», «производимым» мы рассматриваем виктимность ,— производимую любым преступлением. Как верно констатируют З. А. Астемиров и А. А. Гаджиева, «преступлений без жертв не бывает, что всегда кто-то или что-то оказывается в опасности, поврежденным или уничтоженным. В этой связи объектами викти-мологического исследования являются непосредственные и опосредованные потерпевшие, конкретные личности и юридические лица, а также неконкретные образования— международное сообщество, общество, государство, отдельные их сферы и институты» [1, с. 140].
Статистика МВД РФ скромно утверждает: «В 2022 году жертвами преступлений в России стали более 21 тыс. человек» 2 . А исследователи к этому добавляют еще, где-то 23 млн латентных жертв [11, с. 418]. Далеко не всегда жертва объявляется, устанавливается, тем более признается потерпевшим лицом.
Коварство массовости. В массовости усматривается хаотичность (как состояние толпы), но вовсе не в смысле бессистемности, беспорядочности, как это обычно понимается. В обыденном сознании это так. Но мы-то пользуемся научным инструментом (методом) оценки. И этот (философский) инструмент позволяет понять истинный смысл хаоса (массовости). Он заключался в том, что в его стихийной сущности противопоставления себя порядку «заложены возможности дальнейших изменений и трансформаций, в том числе, перехода в собственную противоположность, то есть в порядок»3. И этот порядок (масса его породившая)стремится вытеснить прежний порядок, элитарное меньшинство, т. е. людей, наделенных особыми качествами с доминирующих позиций в обществе, и диктовать им свои условия, навязывать свои взгляды и вкусы1. В массе, как в толпе, человек теряют свою индивидуальность. Массовому человеку свойственно осознавать себя человеком, как все (находящиеся в массе).
Однако массовость, или тиражирован-ность, множественность ( социологический подход) рассматривается нами как формальная сторона явления «безымянной жертвы» [6, с. 51]. Важно (даже важнее ) рассмотреть его другую, внутреннюю , или качественную сторону.
«Массу» относительно к «обществу» исследователи рассматривают через культурологическую призму [6, с. 51] — как явления в качественном отношении противоположные друг другу. Так, в массе они видят представителей низшего уровня культуры, т. е. лишенной творческого начала, шаблонного; в обществе же верховенствуют высшие уровни культуры, в которых утверждается «главенство разума и принципов, над желаниями и корыстью, таким образом настраивая человека на исполнение долга, а не потребления» 2 .
Но вернемся к «массе», в которой царит, принуждающая человека социальная обы-денность 3 . А она, выражаясь словами философа Ф. Ницше, вселяет в человеческую душу состояние, схожее «не с победителями на триумфальной колеснице, а с усталыми мулами, которых жизнь слишком уж часто стегала плетью» [10, с. 137]. Как стегает и сегодня, добавим к нашим размышлениям, «коррупционной плетью», кстати, и не только обыденного человека.
Тем не менее, эти «усталые мулы» вполне довольны своим жизненным укладом. И что печально — их взгляды нормы, поведения воспринимаются обществом как вполне нормальные, обычные 4 .
Во многом под воздействием этой массы в обществе вырабатывается и терпимость к коррупции. Терпимость , как мы понимаем, означает не только невоспрепят-ствование чему-либо, в том числе коррупции, но и готовность принять коррупцию как привычное, обыденное явление, так и основанные на нем последующие поступки, причем, даже несмотря на то, что они не вызывают симпатии или, более того, возбуждают неприязнь к ним 5 .
Многие люди считают, что обстоятельства, в которых совершено (коррупционное или иное) правонарушение, нередко имеют более важное для них значение, нежели само правонарушение [8, с. 171]. А подобные умозаключения, как своего рода «присяжные заседатели» в массовом правосознании, выносят однозначный вердикт: «не виновен».
В подтверждение положений об укоренившихся в сознании и привычках людей «коррупциогенных обыкновений», или жизненных принципов приведем данные нашего исследования 6 .
Нас в частности интересовало мнение горожан по ряду вопросов, касающихся восприятия коррупции как жизненного явления, отношения к коррупции, оценке практики противодействия коррупции и т. п. Нам было важно выяснить, как люди относятся вообще к коррупции, рассматриваемой в качестве угрозы национальной безопасности; в чем они видят такую угрозу по отношению к себе; что предлагают в целях обеспечения антикоррупционной безопасности и т. п.
Что удивительно, нам открылось неожиданное откровение людей в единодушии отношения к тем самым известным (по бытовым разговорам, публикациям) житейским принципам типа «Не подмажешь, не поедешь», «Ты мне— я тебе», «В суд ногой— в карман рукой», и т. п.
Оказалось, с этими «поучениями» были согласны все 100 % реципиентов : «так уж заведено»… При этом 22 % их — полагали, что названными принципами руководствуются все без исключения ; 54 % — соотносят с этими обыкновениями поведение большинства людей и 24 % — считают такие принципы приемлемыми лишь небольшой частью людей.
Наряду с этим люди в большинстве своем (76 %) не только не ощущают для себя какой-либо вред, причиненный коррупцией, но и (29 % опрошенных) допускают даже ее полезность.
Хотя в то же время, как ни парадоксально, но исследователи пришли к выводу о том, что многие из реципиентов высказали такое убеждение — коррупция продуцирует повышение цен на товары и услуги , а это, безусловно, следует рассматривать как их косвенное «признание» себя в качестве жертвы коррупции. Конкретизируя данный вывод, назовем 68 % лиц, убежденных в том, что коррупция отягощает налоговое бремя, особенно в отношении малообеспеченного населения, а еще 44 %— признавшихся в том, что попадали в ситуацию, когда за решение их дела пришлось «неофициально заплатить».
Негативная сторона терпимости . Возникает интересная ситуация: с одной стороны , люди оценивают коррупцию негативно (отяжеляет налоговое бремя) и признаются во взяточничестве, а с другой стороны, — утверждают, что не ощущают какого-либо вреда от коррупции.
Такое вот не осознанно или осознанно, терпимое отношение к плохо представляемой сущности коррупции как угрозе национальной безопасности. «Аналитическое диагностирование» общественного мнения позволяет установить его состояние «социального анабиоза», т. е. такого состояния, в котором жизненные процессы замедляются настолько, что кажется, они почти полностью отсутствуют; однако, в благоприятных условиях, способны возобновиться1 и, что немаловажно, проявить себя не только в прежнем, но и в другом качестве.
Опасность такого состояния общества, пораженного «коррупционной виктимностью», заключается в его необратимости: «Социальный организм может напрочь лишиться свойства реакционности, качества субъектности и потерять способность проявлять свою волю» 2 .
Вот он, тот самый переход хаоса в собственную противоположность, то есть в тот порядок, для которого оказывается нетерпимым порядок существующий. Жертва из статуса объекта преступного посягательства способна (воспользовавшись моральным правом) перейти в статус субъекта самообороны . Что, ввиду разногласий морали и права (закона), несомненно, ведет не только к « рецидиву виктимности », но и способно вылиться в протестные настроения, на волне которых аккумулируется энергия цветных революций [4].
Так что терпимость— палка о двух концах. И что должно нас настораживать, это, как утверждают исследователи, « терпимость », равно как и « нетерпимость », а также и конформизм («следование правилам, установкам и нормам группы, под влиянием реального или воображаемого давле-ния» 3 ) «взращивают насилие и социальную нестабильность» 4 .
Российский социальный философ и культуролог А. С. Ахиезер определяет нетерпимость как одну из крайних форм дискомфортности, которая проявляется в негативных стремлениях подавить, отбросить, а то и уничтожить источники (включая людей и организации), вызывающие дискомфорт. По наблюдениям ученого, в результате активного формирования нетерпимости «она может перерастать в массовые воздействия, например, в погромы (курсив наш — авт.)» [2, с. 100]. Такого рода «массовые воздействия» в оценке Уголовного кодекса РФ определяются, например, как «Массовые беспорядки» (ст. 212 УК РФ).
Уместно добавить, что криминолог П. А. Кабанов, обращая внимание на данную проблему, предостерегает: «антикоррупционная нетерпимость» при ее недооценке легко может быть обращена в такую радикальную форму негативного отношения, как антикоррупционный фанатизм со всеми вытекающими из этого последствиями, а именно антикоррупционный экстремизм [7, с. 1010–1011].
Между тем Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О противодействии коррупции» предусматривает в качестве основной меры профилактики коррупции (ст. 6) «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» 1 .
Это, вроде бы, логично. Перефразируя, изречение классиков о мудрости законодателя в отношении первенства предупреждения преступлений, скажем: лучше предупредить преступное посягательство, чем потом возмещать, компенсировать вред, да притом, если это будет возможно. Тем более профилактика в этом рассматривается как авангардная сила, ибо она обращена на ту самую фоновую первооснову (коррупционных) преступлений, или плодородную для буйных коррупционных всходов почву. Но такая благородная цель не должна оправдывать любые средства. Тем более в данном случае реализация такой меры — формирование нетерпимости в обществе — связано с массово-информационными методами, применение которых требует своего рода «техники информационной безопасности». В противном случае можно легко получить дисфункциональный
«эффект бумеранга». Как писал Вольтер, «право нетерпимости, нелепо и жестоко: это право тигров и даже еще хуже того: тигры раздирают жертву, чтобы насытиться, а мы истребляем друг друга из-за параграфов» 2 .
Коррупционное поведение как непонятный феномен. В законодательстве отсутствует понятие «коррупционное поведение» (как и коррупционное преступление»), поэтому «думайте сами, решайте сами...». Вот мы и думаем, решаем. Во-первых, коррупционное поведение есть абстрактная, такая же безымянная категория, как и « коррупция », с которой ее отождествляют; во-вторых, на индивидуальном уровне такое поведение представляется неоднозначным. Вспомним: «поведение» означает вести себя по отношению к чему-то, кому-то, в том числе к коррупции, например, к взяточничеству как коррупционной криминальной разновидности. А в этой коррупционной сделке находим сложное переплетение не только уголовно-правовых, но и социально-ролевых, причинно-следственных и иных отношений.
Из такого переплетения легко проистекает виктимизация , порождающая, активизирующая в физическом или юридическом лице такие качества, которые умаляют способность лица противостоять преступному посягательству, или формируют виктимность — неспособность лица противодействовать преступному посягательству. В подкупе всегда есть жертва, т. е. лицо, которому был причинен вред индивидуально и непосредственно преступлением. Например, подкуп порождает два вида жертвы (не путать с потерпевшим): а) жертва соблазна, обмана, угроз, шантажа, которой завладевают в целях последующего использования ее должностных возможностей в преступных целях; б) жертва вымогательства. В том и другом случае каждый из них представляет собой криминализированную жертву [5, с. 77], т. е. жертву и преступника в одном лице .
Но коррупционное поведение, как бы ни странно казалось, можно рассматривать и как правомерное. Например, в случае сообщения о готовящемся или совершенном коррупционном преступлении (о фактах коррупции). Здесь наблюдается активное правовое поведение по отношению к коррупции. Так, авторы научно-практического пособия «Правовая защита лиц, сообщающих о фактах коррупции» называют ключевым антикоррупционным механизмом «возможность физического лица заявить о факте коррупции и последующая защита прав и интересов такого лица» [11, с. 40].
Таким образом предусмотренная законодательством в виде, можно сказать, главной меры профилактики коррупции формирование нетерпимости к коррупции представляется, во-первых, некорректной , во-вторых, — еще и небезопасной как для тех, в отношении кого формируется это отрицательное качество, так и для тех, в чьей психике закладывается потенциал нетерпимости.
Как утверждает эксперт ООО «Центра противодействия коррупции в органах государственной власти» С. М. Будатаров, «действующая пропаганда нетерпимого отношения общества к коррупции явно напоминает борьбу с ветряными мельницами» [3, с. 46]. Автор предлагает направить усилия на решение другой, ключевой проблемы, сущность которой заключается в выявлении и устранении причин и условий терпимости к коррупционному поведению.
И в этом плане одной из важнейших задач политики противодействия коррупции мы бы определили деструктивное воздействие на такой мощный энергоемкий фактор коррупции, как негативный менталитет, или мировоззренческо-ментальные предпосылки коррупции.
Но прежде чем определять сущность и содержание такой задачи, необходимо разработать концепцию политики противодействия коррупции. О самой такой политике много говорят и пишут как о само собой разумеющейся. На самом деле такая политика (как искусство управления противодействием коррупции), точнее, как нам представляется, деятельность похожая на политику находится на эвристической стадии самоопределения с помощью таких методов, как лабиринтная модель , модель слепого поиска , а, проще говоря, следуя путем проб и ошибок.
Заключение
Нужна продуманная в научном плане концепции политики противодействия коррупции, в которой следует определить в качестве приоритетного виктимологическое направление.
И на основе концепции, ее руководящих идей (принципов) разрабатывать соответствующее законодательство. При этом «отфильтровывая» его через криминологическую экспертизу.
Кстати, криминологическую экспертизу не следует сводить к определенному механизму (например, в виде антикоррупционной экспертизы), а требуется разработать институт криминологической экспертизы, предмет исследования которой должен включать не только нормативные акты и их проекты, но и меры предупреждения— как на стадии разработки, так и на стадии реализации. В целях оценки результативности.
Понятно, что такая экспертиза должна иметь надежную научную основу. Где ее взять? На этот вопрос может ответить криминологическая экспертология. Но и ее пока нет, хотя в этом направлении научная мысль работает.
Список литературы Безымянная жертва безымянной коррупции
- Astemirov ZA, Gadzhieva AA. Victimological aspects without victims. Probely v rossijskom zakonodatel'stve [Gaps in Russian legislation]. 2013;(5):140 – 145. (In Russ.). https://elibrary.ru/item.asp?id=20583654
- Akhiezer AS. Russia: criticism of historical experience: (socio-cultural dy-namics of Russia). Vol. 2. Theory and methodology. Dictionary. Novosibirsk; 1998. 218 p. (In Russ.).
- Budatarov SM, ed of Panteleev BN. The formation of an intolerant atti-tude towards corruption in society. Report on the problems of reforming the judi-cial system of the Russian Federation by introducing the specialization of the ju-dicial process and providing high-quality expert support on key issues.. Moscow; 2014. 76 p. (In Russ.).
- Verdikhanov BB. Corruption and "color revolutions". Nauchnye vyskazyvaniya [Scientific statements]. 2022;(1):27-31. URL: https://nvjournal.ru/article/87-korruptsiya-i-tsvetnie-revolyutsii (In Russ.).
- Gorshenkov GG. Personality before the danger of criminal threat [mono-graphy]. Nizhny Novgorod, 2006. 108 p. (In Russ.).
- Ilyin AN. Mass man: his essence and conditions of occurrence. Vestnik Omskogo universiteta [Bulletin of Omsk University]. 2009;(4):51-58. (In Russ.). https://elibrary.ru/item.asp?id=13620937
- Kabanov PA. The formation of intolerance to corrupt behavior as a le-gally undefined legal category and its content. Aktual'nye problemy ekonomiki i prava [Actual problems of economics and law]. 2019;13(1):1007 – 1026. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.21202/1993-047X.13.2019.1.1007-1026
- Kudryavtsev VN. Crime and morals of a transitional society. Moscow; 2002. 238 p. (In Russ.).
- Ozhegov SI, Shvedova NY. Explanatory dictionary of Russian language: 80,000 words and phraseological expressions. 4th ed., supplemented. Moscow; 1997. 944 p. (In Russ.).
- Nietzsche F. Merry Science ; Evil Wisdom. Per. and comment by K. A. Svassian. Moscow; 2008. 526 p. (In Russ.).
- Olkova OA. The exact measurement of latent crime. The answer of Pro-fessor S. G. Olkov to Adolf Ketle. Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo uni-versiteta imeni V. I. Vernadskogo Yuridicheskie nauki [Scientific notes of the Cri-mean Federal University named after V. I. Vernadsky Legal Sciences]. - 2020. – Vol. 6 (72). No. 4. pp. 388-432. (In Russ.). https://elibrary.ru/item.asp?id=45826635
- Artemov VY, Golovanova NA, Kubantsev SA, etc.; ed. Tsirin AM, Spector EI. Legal protection of persons reporting facts of corruption: a scientific and practical manual. Moscow; 2016. 144 p. (In Russ.).