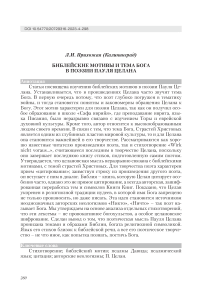Библейские мотивы и тема бога в поэзии Пауля Целана
Автор: Прихожая Л.И.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению библейских мотивов в поэзии Пауля Целана. Устанавливается, что в произведениях Целана часто звучит тема Бога. В первую очередь потому, что поэт глубоко погружен в тематику войны, и тогда становятся понятны и закономерны обращения Целана к Богу. Этот мотив характерен для поэзии Целана, так как он получил особое образование в школе «Сафа иврийя», где преподавание иврита, языка Писания, было неразрывно связано с изучением Торы и еврейской духовной культуры. Кроме того, автор относится к высокообразованным людям своего времени. В связи с тем, что тема Бога, Страстей Христовых является одним из глубинных пластов мировой культуры, то и для Целана она становится важнейшей в его творчестве. Рассматриваются как хорошо известные читателю произведения поэта, так и стихотворение «Wirk nicht voraus...», считающееся последним в творчестве Целана, поскольку оно завершает последнюю книгу стихов, подготовленную самим поэтом. Утверждается, что целановская мысль неразрывно связана с библейскими мотивами, с темой страстей Христовых. Для творчества поэта характерен прием «цитирования»; заимствуя строку из произведения другого поэта, он вступает с ним в диалог. Библия - книга, которую Целан цитирует особенно часто, однако это не прямое цитирование, а всегда авторская, зашифрованная переработка тем и символов Книги Книг. Показано, что Целан укоренен в религиозной традиции иудеев, в которой имя Бога запрещено не только произносить, но даже писать. Эта идея становится источником неоднозначных авторских неологизмов «Никто», «Ничто» - так поэт называет Бога. Мы утверждаем на основе анализа отдельных стихотворений, что эти лексемы - не провокативное богохульство, а особое целановское шифрование. Сделан вывод о том, что поэтическая мысль Пауля Целана пронизана темами и образами Библии, богата религиозной символикой. Язык его стихов близок к библейской речи, а все его поэтическое творчество - не что иное, как попытка познать, постичь Бога.
Стихотворение, библейский мотив, псалмы давида, псалмический язык, цитация, авторские неологизмы, п. целан
Короткий адрес: https://sciup.org/149144358
IDR: 149144358 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-298
Текст научной статьи Библейские мотивы и тема бога в поэзии Пауля Целана
«У меня сложилось странное впечатление о нем: застенчивый, впечатлительный, чувствующий себя здесь чужим, возможно, чем-то расстроенный; человек, который не может смеяться» [Richter 1979, 111] – так воспоминал Г.В. Рихтер о поэте Пауле Целане, на чью жизнь и творчество глубокий отпечаток наложили война, гибель родителей в концлагере и личный опыт заключения.
Основной темой произведений Целана в послевоенное время стали страдания еврейского народа в годы Второй мировой войны. Всю последующую жизнь поэт старался вместить в строки своих стихов груз пережитого и давившую на него тяжесть воспоминаний. Чувство израненности, с которым он жил, звучит во многих его стихотворениях. При таком погружении в тему войны понятны и закономерны обращения Целана к Богу.
А. Нестеров отмечает в стихах поэта присутствие темы взаимоотношений человека с Богом и считает неоспоримым фактом, что «в основе множества стихотворений Целана лежат образы, восходящие к еврейской духовной культуре» [Нестеров 2007]. Он связывает это с особым начальным образованием, которое получил Пауль Анчель, три года ходивший в еврейскую начальную школу «Сафа иврийя» («Еврейский язык»), где преподавание иврита, языка Писания, было неразрывно связано с изучением Торы и классических комментариев к ней.
Важно также помнить, что Пауль Целан относится к высокообразованным литераторам своего времени, по словам В.М. Яценко, «хранящим в своей ментальности громадные пласты мировой культуры» [Яценко 2009, 301]. Мог ли в таком случае поэт обойти тему Бога и, разумеется, Страстей Христовых, являющуюся одним из глубинных пластов и краеугольных камней мировой культуры?
К произведениям Целана, в которых просматривается библейский мотив, следует в первую очередь отнести стихотворение о Холокосте «Tenebrae» из сборника «Решетка языка». Оно написано от лица евреев, находящихся в газовой камере. Название стихотворения переводится с латинского языка как «Тьма» и отсылает читателя к отрывку из Евангелия от Матфея, согласно которому во время распятия Иисуса Христа «от шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого» (Мф. 27:45). По словам Ханса-Георга Гадамера, можно не сомневаться в том, что стихотворение не было бы названо так, если бы не отсылало ко всей традиции страстей, включая ветхозаветные плачи [Gadamer 1997].
Для творчества Целана в целом характерен прием «цитирования»: он часто заимствует строку из произведения другого поэта и как-бы вступает с ним в диалог. Таким образом Целан высказывает свою точку зрения на обозначенную другими поэтами мысль. В своей переводческой деятельности Целан с начала 1960-х гг. действует по тому же принципу: ради того, чтобы вступить в диалог с другими авторами, он переводит их тексты вольно: передает метафоры одним сложным словом, переставляет слова. В текстах могла появиться диалогическая структура, которой не было в оригинале, например, с добавлением оппозиции «я – ты». Вольные переводы поэта приводят к тому, что он как переводчик возвращает из небытия чужое высказывание, актуализируя его, помещает в контекст своего языка [Gossens 2012, 181].
И переводы, и использование приема цитирования в своих произведениях – это дискуссия поэта с интересными ему мыслителями.
Целан цитирует многих: Кафку, Брехта, Гёльдерлина, Гейне, братьев Гримм, Данте и, конечно же, Книгу Книг – Библию. К особенностям этого приема у Целана следует отнести и то, что он часто «ссылается» на собственные более ранние стихи.
Стихотворение «Tenebrae» начинается с цитирования. Первые строки перефразируют начало «Патмоса» Гёльдерлина, но с противоположным смыслом: у Гёльдердина за опасностью следует спасение («Близок Бог / И непостижим. / Где опасность, однако / Там и спасенье» [Гёльдерлин 1969, 172], пер. В. Микушевича), у героев Целана на Бога нет никакой надежды.
TENEBRAE
Nah sind wir, Herr, nahe und greifbar.
Gegriffen schon, Herr, ineinander verkrallt, als wär der Leib eines jeden von uns dein Leib, Herr.
Bete, Herr, bete zu uns, wir sind nah.
Windschief gingen wir hin, gingen wir hin, uns zu bücken nach Mulde und Maar.
Zur Tränke gingen wir, Herr. Es war Blut, es war, was du vergossen, Herr.
Es glänzte.
Es warf uns dein Bild in die Augen, Herr,
Augen und Mund stehn so offen und leer, Herr.
Wir haben getrunken, Herr.
Das Blut und das Bild, das im Blut war, Herr.
Bete, Herr, wir sind nah.
Рядом мы, Господь, рядом, рукой ухватишь.
Уже ухвачены, Господь, друг в друга вцепившись, будто тело любого из нас – тело твое, Господь.
Молись, Господь, молись нам, мы рядом.
Криво шли мы туда, мы шли чтоб склониться над лоханью и мертвым вулканом.
Пить мы шли, Господь.
Это было кровью. Это было тем, что ты пролил, Господь.
Она блестела.
Твой образ ударил в глаза нам, Господь.
Рот и глаза стояли открыто и пусто, Господь.
Мы выпили это, Господь.
Кровь и образ, который в крови был, Господь.
Молись, Господь.
Мы рядом
(пер. О. Седаковой)
По совету своего друга, католического философа Отто Пёггелера, Це-лан убрал при первой публикации стихотворения провокативную строку «Молись, Господь, молись нам», которая могла быть воспринята как богохульная. Однако позже, при издании сборника «Решетка языка», он вернул эту строку. Смягчающую, примиряющую интерпретацию этой строки предлагает Гадамер. Он считает, что, по замыслу Целана, евреи обращаются к распятому на кресте Иисусу, указывая, что сейчас Он должен обращаться в молитве не к Богу, который не знает, что такое смерть, и потому недостижим, а к ним самим («нам»), потому что именно «мы» знаем, что такое смерть и ее неизбежность [Gadamer 1997].
Рассуждая на эту непростую тему, важно не забывать, что Целан не христианин. Перед нами характерный для иудеев диалог с Богом: как со своим, с тем, кто кровно с тобой связан. Поэт обращается к Богу «Господь». Уже в самом этом обращении слышится требование отчета. Так говорят с Богом пророки. В псалмах Давида можем найти такое обращение-воззвание: «Доколе, Господи?.. Доколе будешь отвращать лицо Твое от меня?» (Пс. 12); «Отдал Ты нас, будто овец, на съедение, и среди язычников рассеял нас», «Восстань, – что опочил Ты, Господи?» (Пс. 43). Це-лан укоренен в иудейской традиции общения с Богом, когда возносящий молитву проявляет требовательность, жалуется и призывает Бога помочь ему. Литературоведы, занимающиеся исследованием творчества Целана, нередко сталкиваются с тем, что их интерпретации могут быть кардинально противоположными. С нашей позицией, пожалуй, не согласилась бы
О. Щербинина, которая в статье «Пауль Целан: не у ворот пришелец…» пишет: «Здесь образ Господа – всемирен, это Бог иудеев и бог христиан, это – общечеловеческий Бог» [Щербинина 2019]. Она аргументирует это тем, что глубинное единение человека с «Ним» произошло через кровь, которой Он искупил грехи человечества, а «мы выпили это, Господь», приняли Его жертву, соединились с Ним. Однако мы не можем принять данную точку зрения, поскольку, придерживаясь ее, исследователь непременно придет в итоге к утверждению того, что Целан провокативен и богохульствует.
Другое широко известное стихотворение Целана, «Псалом», из сборника «Роза Никому» (1963), развивает важную для поэта тему взаимоотношений Бога и человека и является настоящей молитвой.
ПСАЛОМ
Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, niemand bespricht unseren Staub.
Niemand.
Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen wir blühn.
Dir entgegen.
Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben, blühend:
die Nichts, – die Niemandsrose.
Mit dem Griffel seelenhell, dem Staubfaden himmelswüst, der Krone rot vom Purpurwort, das wir sangen
über, o über dem Dorn.
Некому вновь замесить нас из персти и глины,
Некому заклясть наш прах.
Некому.
Слава тебе, Никто.
Ради тебя мы хотим цвести.
Тебе навстречу.
Ничто были мы, и есть, и будем и останемся, расцветая: Ничего –
Никому – роза.
С ее пестиком светлосердечным тычинками небеснопустыми с красным венцом пурпура-слова, которое мы пели поверх, о, поверх терний.
(пер. О. Седаковой)
Уже своим названием стихотворение отсылает читателя к жанру славословия, молитвенного песнопения. Библейские псалмы славят Господа. В псалмы традиционно включены не только слова восхваления и смирения, но и сетования на жизнь. З. Копельман в статье к сборнику «Опечатанный вагон» полагает, что, хотя «Псалом» Целана и обращен к Нему – к Богу, Он являет поэту Свое отсутствие. Человек у Целана подобен Создателю, «поэтому коль мы – Ничто, то и Он оказывается Никто» [Копельман 2005, 6]. Вероятно, исследовательница связывает позицию поэта с тем, что его отношение к Богу и религии претерпело на протяжении его жизни изменения. «Я не знаю, разуверился ли Целан в Боге, но даже если так, безбожие воспитанного в религиозной семье еврея иное, чем мировоззрение потомственного атеиста. Ставший безбожником или критикующий свою религию еврей всю жизнь полемизирует с Богом, которого хочет и не умеет вычеркнуть из картины мира» [Копельман 2005, 6].
На наш взгляд, лексема «Никто» возникает в стихотворении в связи с религиозной традицией иудеев, в которой имя Бога запрещено не только произносить, но даже писать. Такой точки зрения придерживается и В.М. Яценко: «В иудаизме Никто – Бог, он не может быть поименованным, поэтому его обозначает обобщающее безмерное Никто, которое всегда с большой буквы в неизменной грамматической форме» [Яценко 2009, 297].
Первая строфа стихотворения отсылает к мифу о сотворении человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). Здесь возникает особая цела-новская вещность: земля, глина, прах (в оригинале пыль) – как напоминание о том, что человек вылеплен из этого вещества, и в него же возвращается.
Со слов благодарности Творцу начинается вторая строфа стихотворения. В оригинале используется классическая для псалмов форма обра- щения к Богу «благословен будь» (в переводе – «Слава тебе, Никто»). В последующих строках – «Ради тебя мы хотим / цвести. / Тебе / навстречу» – Целан славит Создателя. Образ цветения человека во имя Бога усиливает чувство благодарности Создателю. Однако наречие entgegen в конце строфы стоит отдельной строкой, тем самым открывая читателю двойной смысл. В немецком языке entgegen имеет два значения: «вопреки» и «навстречу». И хотя на первый план выходит смысл «навстречу, благодаря» («Ради тебя мы хотим / цвести. / Тебе / навстречу», что также подтверждает перевод О. Седаковой), все же в подтексте скрыто сохранен смысл «вопреки»; мы цветем вопреки униженности и страданиям. В подтексте стиха мы сталкиваемся с сетованиями поэта на жизнь. «Подтекст у Целана… означает продление смысла. В данном случае он дань уважения привычному умолчанию о себе еврейского народа, его естественной речевой фигуре умаления себя ради возвеличения Бога» [Яценко 2009, 297]. Таким образом, благодаря многозначности слова entgegen здесь соединяются смыслы – прославление и одновременно сетование на Бога.
В третьей строфе читателю предъявлена загадка – авторские неологизмы die Nichts и die Niemandsrose . Die Nichts («Ничто») расшифровывается поэтом в следующей строке как «мы», а слова blühn («цвести»), blühend («расцветая»), разорванные в оригинале многоточием, наглядно отражают длительный путь становления «нас»-«Ничто». Неологизм die Niemandsrose объединяет в себе и Творца, и творение. Человек – это роза для Него. И хотя автор утверждает, что человек есть и останется Ничем, но написание этих двух слов с большой буквы (все существительные в немецком языке пишутся с большой буквы) уравнивает их в грамматическом плане, тем самым уравниваются статусы Создателя и его создания.
Особый смысл в «Псалме» несет описание розы. Цвет у нее красный, как у крови. Последнее предложение стихотворения (в дословном переводе: «пурпурное слово, которое мы пели над шипами») неизбежно вызывает ассоциацию, связанную с раной сердца: пели, страдая, и о своих страданиях. В описании розы слышен плач над страданиями, над судьбой еврейского народа.
Выводы критиков в определении смысла этого стихотворения подчас прямо противоположны. В.М. Яценко утверждает, что «“Псалом” – катарсис победности духа в трагедии страданий, унижений. Катарсис в трагедии» [Яценко 2009, 298]. Согласно другой устоявшейся трактовке, «стихотворение Целана… поражает безысходностью. Эта молитва звучит как плач, как выражение отчаяния. <…> “Псалом” является выражением крайне трагичного мировосприятия» [Зарубежная литература XX века 2022, 441]. По нашему мнению, «Псалом» – это и хвала Богу, и плач о судьбе еврейского народа, но также и победная песнь духу, сумевшему выстоять в страданиях.
Многие литературоведы называют стихотворение «Wirk nicht vor-aus…» завершающим творчество Целана, поскольку оно является заключительным в последнем сборнике стихов, «Бремя света», который подготовил к публикации сам поэт.
Wirk nicht voraus, sende nicht aus, steh herein:
durchgründet vom Nichts, ledig allen Gebets, feinfügig, nach der Vor-Schrift, unüberholbar, nehm ich dich auf statt aller
Ruhe.
Не действуй наперед, не посылай вовне, стой внутрь:
проникнутый основой Ничто, налегке, без всякой молитвы, чуткий, по пред-Писанию, непревзойденно, я приму тебя вместо любого покоя.
(пер. А. Ярина)
Это стихотворение требует усилий для своего толкования, и прежде всего потому, что содержит много слов и словесных конструкций, которые придумал сам автор и которых читатель не найдет ни в одном словаре: durchgründet , «проникнутый основой», feinfügig , «чуткий», sende nicht aus , wirk nicht voraus , steh herein . Изобилие авторских слов и конструкций усложняют понимание произведения. Тем не менее, опираясь на лексику стихотворения, можно предположить, что его источником является библейский мотив. Сначала мы отмечаем только слова: Gebet («молитва»), nach der Vor-Schrift («по пред-Писанию»). Обе части слова: Vor ( пред- ) и Schrift ( писание ) разделены дефисом и написаны с прописной буквы, и это не случайно. Целан делает это намеренно, вкладывая в такую конструкцию определенный смысл. Посредством пунктуации автору удается сократить слово, в результате чего появляется словосочетание «по
Писанию», которое часто встречается в Библии. Таким образом, перед нами зашифрованный текст, вероятно, связанный с высказанной в Библии мыслью или эпизодом.
Стихотворение состоит из трех строф. Первая начинается словами Wirk nicht voraus – «Не действуй наперед…» . Их адресата непросто определить. Они обращены к некоему Ты, так как автор употребляет императив «ты-формы». Если речь заходит о действии наперед , значит, особо подчеркивается, что в этом действии заложено некое пред-усмотрение. «Наперед» действует лишь тот, кто загодя что-то пред-усматривает. За ней следует строка sende nicht aus – «не посылай вовне». Х.-Г. Гадамер пишет: «Мне представляется, что мысль о посылании Иисусом апостолов является здесь неизбежно» [Гадамер 1996, 205]. Имеется в виду наставление Иисуса ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). И если обе строки объединить общим смыслом, то, по сути, здесь звучит отмена этого поручения. Далее следует в высшей степени загадочное образование: steh herein («стой внутрь»), причем слово «стой» занимает отдельную строку и приобретает особую значимость, поэт выделяет его, подчеркивая особый смысл. Добавление к нему уточнения «внутрь» создает призыв, противоположный тому, что звучит в Евангелии. Поэт призывает не действовать во внешнем мире, а обратить свой ум в мир внутренний. Первая строфа заканчивается двоеточием, которое связывает начало стихотворения с его продолжением.
Вторая строфа открывается словами durchgründet vom Nichts («проникнутый основой Ничто»). В этой строке присутствует Ничто, которое господствует, проникает во все сущее. Ничто обосновывающее – являющееся основанием всему. Слово durchgründet («проникнутый») усиливает присутствие Ничто, создает контекст максимальной значимости Ничто в каждой человеческой сути. Далее следует сочетание ledig allen Gebets («налегке, без всякой молитвы»). Здесь поэт признается, что молитва – слишком тяжелый и обременительный груз. В этих двух строках усматривается противоположный смысл: Ничто везде, но человек, оставляя молитву, стремится высвободиться из этого всеобъемлющего присутствия.
Вторая строфа завершается словами feinfügig, nach der Vor-Schrift, unüberholbar («чуткий, по пред-Писанию, непревзойденно»). Прилагательное feinfügig («чуткий») семантически связано с последующим существительным «пред-Писание» . Именно «предписание» и есть то, по отношению к чему некто является ge fügig – «податливым, послушным». Получается, что данную строку можно понять так: некто feinfügig (особенно чуток ) по отношению к Vor-Schrift (пред-Писанию), которое, в свою очередь, является «непревзойденным». Теперь слово «пред-Писание» обретает свой окончательный смысл: это изначальное писание, предваряющее всякое другое писание.
Далее следует третья строфа, в которой Целан использует ошеломляющее средство. Прочитав слова nehm ich dich auf statt aller («я приму тебя вместо любого...»), читатель может ожидать какого угодно продолжения, но только не слова Ruhe – «покой». Поэт признается, что хочет принять нечто, мимо чего не может пройти, потому что оно «стоит внутрь». И это нечто, в высшей степени неспокойное, является его желанным гостем. Возможно, таков смысл последних строк. Но мы должны еще учиться читать герметические (закрытые для обычного восприятия) тексты, подобные целановским. Диссонанс царит в этом стихотворении: «стой внутрь»; «проникнутый основой Ничто»; «налегке, без всякой молитвы». Однако благодаря этой разноголосице, диссонансу мысль звучит сильнее, а целое может обрести согласованную осмысленность.
В понимании этого стихотворения может помочь научный комментарий Б. Видеманн к изданию стихов Целана [Wiedemann 2018, 1429], где утверждается, что в стихотворении «Wirk nicht voraus…» налицо аллюзии, связанные с трактатом М. Экхарта «Об отрешенности». Целан прибегает к приему «цитирования», заимствует несколько строк из трактата: Gott wirkt nichts neu, denn alles ist vorausgewirkt > wirk nicht voraus ; Und wenn ich alle Schriften durchgründe… > durchgründet vom Nichts ; поэт цитирует и другие строки трактата. Однако у Целана свой смысл, заимствованные слова выстраиваются в новые идеи.
В данной статье была осуществлена попытка осмыслить стихотворения без опоры на предыдущий исследовательский опыт литературоведов. Ведь «cтихотворение живет своей, внутри него протекающей жизнью. Нужно в него “войти” и по законам этой его жизни с ним сосуществовать. Читая стихотворение Целана, ты должен шагнуть внутрь него, тогда и оно сделает шаг к тебе. Но ты должен этот первый шаг сделать сам, не опираясь на перила комментариев, иначе будешь стоять снаружи, а тебе будут рассказывать, откуда в нем что взялось, но в самом стихотворении ты так и побываешь» [Белорусец 2021, 712].
Поэзия Целана совсем не проста для понимания. Его стихи напоминают зашифрованные записи высокообразованного человека, по-своему перерабатывающего символы Библии, мировой мифологии и современных философских течений. М. Белорусец, переводивший его стихи, пишет: «Даже при наличии комментариев стихотворения такого поэта, как Целан, вряд ли можно понять до конца» [Белорусец 2020], однако в своей статье «Все поэты – изгои: как читать стихи Пауля Целана» он повторяет читателю совет самого поэта относительно собственных стихов: «Читайте, перечитывайте постоянно, понимание придет само собой». Если последовать совету Пауля Целана, то осмысление непременно случится, а за ним придет и восхищение пластикой его поэтического языка, словотворчеством, глубиной мысли и печальным светом его лирики.
Как мы увидели в результате анализа и интерпретации отдельных стихотворений Пауля Целана, его поэтическая мысль пронизана темами и образами Библии, богата религиозной символикой. Язык его стихов близок к библейской речи, его можно назвать псалмическим. У целановско-го Бога большое разнообразие имен: Господь, Никто, Ничто. Поэт часто провокативен в своих стихах, из-за чего многие исследователи его творчества считают, что «все это притягивается к полюсу демонизма» [Седакова 2010, 537]. Но, на наш взгляд, поэт в своем творчестве и при помощи его пытается узнать, познать Бога. Ведь веровать в Бога – хорошо, а знать Бога – блаженно. О. Седакова пишет: «Целан же… я думаю, его сложность и его темнота, по существу, позитивны, это мир, в котором нет демонов, не предполагается никакой “злой силы” вроде сатаны. Трудность и неоднозначность тут другой природы: неясный непроясняемый, непроницаемый образ Творца…» [Седакова 2010, 537]. Может быть, Целан и не прояснил для себя и нас читателей образ Творца. Но то, что он о Нем всегда мыслил, – это неоспоримый факт.
Список литературы Библейские мотивы и тема бога в поэзии Пауля Целана
- БелорусецМ. «Все поэты - изгои» // Горький: [офиц. сайт]. 01.12.2020. URL: https://gorky.media/reviews/vse-poety-izgoi-kak-chitat-stihi-paulya-tselana/ (дата обращения: 24.09.2023).
- Белорусец М. Целан Пауль. Стихотворения. Проза. Письма / сост. и общ. ред. Т. Баскаковой и М. Беларусца. М.: Ad Marginem, 2021. С. 707-725.
- Гадамер Х.-Г. Последнее стихотворение Целана // Иностранная литература. 1996. № 12. С. 205-210.
- Гёльдерлин Ф. Сочинения. М.: Художественная литература, 1969. 543 с.
- Зарубежная литература XX века: практические занятия / под ред. И.В. Кабановой. 4-е изд. М.: Флинта, 2022. 472 с.
- Копельман З. Голоса из обители мертвых // Опечатанный вагон: рассказы и стихи о Катастрофе / сост. и ред. З. Копельман. М.; Иерусалим: Комиссия по материальным искам к Германии; Еврейское агентство для Израиля, 2005. С. 3-24.
- Нестеров А. «Псалом» Пауля Целана // Лехаим. 2007. № 2(178). URL: htt-ps://lechaim.ru/ARHIV/178/nesterov.htm (дата обращения: 24.09.2023).
- Седакова О.А. Переводы: в 4 т. Т. 2. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. 576 с.
- Щербинина О.Г. Пауль Целан: не у ворот пришелец. // НП «Русская культура»: [офиц. сайт]. 05.08.2019. URL: http://russculture.ru/2019/08/05/paul-celan-ne-u-vorot-prishelez/ (дата обращения: 24.09.2023).
- Яценко В.М. История зарубежной литературы второй половины ХХ века: учебник. Новосибирск: НГТУ, 2009. 333 с.
- Gadamer H.G. Gadamer on Celan: "Who Am I and Who Are You?" and Other Essays. New York: State University of New York Press, 1997. 67 р.
- Gossens P. Celan-Handbuch: Leben. Werk. Wirkung / Hrsg. von M. Markus, P. Gossens, J. Lehmann. Stuttgart; Weimar: J.B. Metzler Verlag, 2012. 441 s.
- Richter H.W. Wie entstand und was war die Gruppe 47? // Hans Werner Richter und die Gruppe 47 / Hrsg. von H.A. Neunzig. München: Nymphenburger, 1979. 256 s.
- Wiedemann B. Neue kommentierte Gesamtausgabe von Barbara Wiedemann // Celan P. Die Gedichte. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2018. S. 1429-1430.