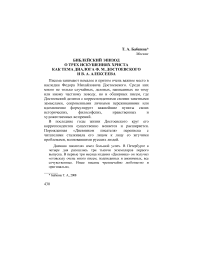Библейский эпизод о трех искушениях Христа как тема диалога Ф. М. Достоевского и В. А. Алексеева
Автор: Бабкина Т.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.8, 2008 года.
Бесплатный доступ
В центре статьи - переписка Достоевского с Василием Алексеевичем Алексеевым, солистом в оркестре Мариинского театра, возникшая как обратная связь осле выхода «Дневника писателя».
Христос, искушение, диалог, ф.м. достоевский, в.а. алексеев
Короткий адрес: https://sciup.org/14749241
IDR: 14749241
Текст статьи Библейский эпизод о трех искушениях Христа как тема диалога Ф. М. Достоевского и В. А. Алексеева
Письма занимают немалое и притом очень важное место в наследии Федора Михайловича Достоевского. Среди них много не только случайных, деловых, написанных по тому или иному частному поводу, но и обширных писем, где Достоевский делится с корреспондентами своими заветными замыслами, сокровенными личными переживаниями или вдохновенно формулирует важнейшие пункты своих исторических, философских, нравственных и художественных воззрений.
В последние годы жизни Достоевского круг его корреспондентов существенно меняется и расширяется. Порожденная «Дневником писателя» переписка с читателями сталкивала его лицом к лицу со жгучими проблемами, волновавшими русских людей.
Дневник писателя» имел большой успех. В Петербурге в четыре дня разошлись три тысячи экземпляров первого выпуска. В первые три месяца издания «Дневника» он получил «отовсюду очень много писем, подписанных и анонимных, все сочувственные. Иные писаны чрезвычайно любопытно и оригинально, и к тому же всех возможных существующих теперь направлений»1.
Л. А. Ожигиной Достоевский писал:
Я получил сотни писем изо всех концов России и научился многому, чего прежде не знал. Никогда и предположить не мог я прежде, что в нашем обществе такое множество лиц, сочувствующих вполне всему тому, во что я верю (III, 284).
Писатель вдумчиво и внимательно относится к письмам этих своих новых, подчас безвестных корреспондентов, принадлежащих к разным классам общества, представителям разных национальностей, профессий, идеологических направлений, их личным и общественным нуждам.
В фондах Достоевского хранится около двухсот писем от читателей «Дневника писателя». Многие письма содержат восторженные отзывы, в других критикуются высказывания Достоевского. Многие корреспонденты ставят перед писателем волнующие их вопросы.
Одним из таких корреспондентов стал Василий Алексеевич Алексеев, который в период знакомства и переписки с Достоевским был солистом в оркестре Мариинского театра. Алексеев страстно любил музыку, а также увлекался литературой, причем Достоевский был его самым любимым писателем.
Свое первое письмо к нему Алексеев написал в связи с публикацией в «Дневнике писателя» за май 1876 года статьи «Одна несоответственная идея» (II гл.), посвященной самоубийству Н. Писаревой.
В ней Федор Михайлович описывает свои впечатления от посещения Петербургского воспитательного дома и, размышляя о будущем воспитываемых там детей, обращается к частым тогда в Петербурге фактам самоубийств, особенно среди учащейся молодежи, специально — женской.
В качестве примера рассказывает о письме девицы, приведенном в газете «Новое время». Молодая девушка, уехав от родителей, поступила в акушерки. Сама она свидетельствует в письме, что не нуждалась вовсе и могла довольно зарабатывать, но что очень устала, устала так, что ей захотелось отдохнуть.
«Где же лучше отдохнешь, как не в могиле?»2
часто слова Евангелия о камнях, обращенных в хлебы. Это было предложено диаволом Христу, когда он его искушал, но камни не сделались хлебами и не обратились в пищу, и затем нигде не говорится в Евангелии о камнях, обращенных в хлебы4.
Ф. М. Достоевский, со свойственной ему аккуратностью, немедленно, невзирая на только что бывший с ним припадок эпилепсии, ответил своему корреспонденту:
«Камни и хлебы» значит теперешний социальный вопрос, среда. Это не пророчество, это всегда было5.
При этом проблема «обращения камней в хлебы» трактуется в письме вполне драматически, так что философская идея облечена здесь в художественную форму.
Святой Киприан писал:
Через искушение Иисуса Христа в пустыне, божественная премудрость прежде всего желала примером наставить учеников и предоставить доказательства тому, что искушения победимы, чтобы слышала, видела человеческая разумность, как она была бы непреодолима и какою была бы победительницею греха, если бы свободная воля всегда сохраняла свою истинную свободу6.
Опираясь на высказывание Святого, Достоевский понимал искушения как, прежде всего, самоиспытание, самоопределение или решение. Искушения диаволом в пустыне были приготовлением Иисуса к Его великой миссии.
Комментарий / Печатня А. И. Снегиревой. М., 1900.
Они являлись началом той победы над диаволом, которая продолжалась все время.
Ф. М. Достоевский прошел долгий путь к принятию этой истины.
1847—1849 годы — кружок петрашевцев и идеи социализма.
Вот как описывал Достоевский в 1856 году в письме к брату своего товарища по Инженерному училищу Э. Тотлебену, герою Севастопольской обороны, свое моральное состояние в те годы:
Я был два года сряду болен болезнью странною, нравственною. Я впал в ипохондрию. Было даже время, что я терял рассудок. Я был слишком раздражителен, с впечатлительностью, развитою болезненно, со способностью искажать самые обыкновенные факты и придавать им другой вид и размер (III, 178).
1849 год — арест, казнь, Сибирь.
На каторге, обдумывая собственную жизнь, узнавая ужасные, трагические судьбы окружающих, Достоевский все яснее понимал, что «зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты» и никакое устройство общества само по себе не исправит этого зла.
Когда-то в детстве, в деревне, маленький Федя, гуляя за оврагом, был напуган криком: «Волк!» — и в ужасе помчался прочь. Его остановил, успокоил и приласкал пахавший в поле мужик Марей, о котором он вспоминал на каторге. Глядя на страшные лица каторжников, Достоевский понял, что одним из них вполне мог быть тот же самый
Марей.
Я вдруг почувствовал, — вспоминал позднее Федор Михайлович, — что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом7.
В каждом человеке, если смотреть на него не сверху вниз, не со страхом, злобой или презрением, а с любовью, как на брата, можно увидеть образ Божий. Все понятое и пережитое в эти четыре года каторги во многом изменило мировоззрение автора-писателя, определило дальнейший творческий путь.
«Общество основывается на началах нравственных: на мясе, на экономической идее, на претворении камней в хлебы —
Бог. Но почти у каждого, кто соприкоснулся со светлым образом главного героя романа, остались неизгладимый след в душе и память о том, что человек может быть и таким — отдавшим всего себя ближним.
Достоевский верил, что «люди могут быть прекрасны и счастливы» не только в загробной жизни, но и «не потеряв способности жить на земле». Если человечество поймет и увидит, как оно прекрасно, наступит золотой век. Но в одночасье этого случиться не может. Нужен долгий труд, упорная духовная работа.
Алеша Карамазов (герой романа «Братья Карамазовы»), в отличие от князя Мышкина, «земной» и здоровый человек. Он не претендует на то, чтобы кого-то спасать, понимая и собственное несовершенство, и то, что надо лишь помогать людям самим найти верный путь, справиться с грехом.
Искренне верующему Алеше противостоит его брат Иван, восставший против Бога, потому что в мире слишком много зла. Как же Бог допускает это? Будущее счастье всего человечества, утверждает Иван Карамазов, не стоит одной «слезинки ребенка». Но всей системой образов романа Достоевский показывает: дети страдают от зла, порожденного человеком, а не Богом. Бог наделил человека свободой, а значит и ответственностью9.
Н. А. Бердяев, философ и публицист, проповедовавший «новое религиозное сознание», в своей статье «Великий инквизитор» говорит о том, что тема трех искушений актуальна, что именно в этих трех вопросах совокуплена в одно целое и предсказана история человечества и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле:
1-е искушение — социализм;
2-е искушение — отрицание абсолютной ценности совести, свободы выбора;
3-е искушение — соблазн властью.
В предсмертном письме Писаревой Достоевский усмотрел настроения, по его мнению, характерные для молодежи, проповедующей идеи социализма.
Писарева училась и якшалась с новейшей молодежью, где дела нет до религии, а где мечтают о социализме, то есть о таком устройстве мира, где прежде всего будет хлеб и хлеб будет раздаваться поровну...10
Вспоминая 1-е искушение Христа, Достоевский, как бы ведя диалог с Алексеевым, говорит о том, что с доводами диавола трудно не согласиться. Накорми «и тогда уже спрашивай с них греха. Тогда, если согрешат, то будут неблагодарными, а теперь — с голоду грешат. Грешно с них и спрашивать»11.
Далее писатель размышляет о социализме в Европе, настроениях, связанных с уходом от веры в Христа.
Как же эти суждения соотносятся с самоубийством Писаревой?
«Не хлебом единым жив человек». Диаволова идея могла подходить только человеку-скоту. Идеал красоты, духовная жизнь — вот основа возрождения человека.
Без них затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии.
Не это ли произошло с упомянутой девицей? В первом послании коринфянам апостола Павла говорится:
Когда Христианин все упование свое возложит на Бога, тогда душа его освобождается от искушений12.
Усталость, скука, цинизм, неверие, уход от Бога — вот что довело ее до убийства самой себя. В письме также упоминается учение Дарвина о происхождении человека,
(но скверно, что грехами человек может обратиться опять в скота)13.
Письмо Достоевского Алексееву — это важнейший документ из предыстории формирования философско-эстетической проблематики романа «Братья Карамазовы», раскрытой в главе «Великий инквизитор».
Дело в том, что в статье «Одна несоответственная идея» («Дневник писателя» за май 1876 года, II гл.) Достоевский с горечью говорит о бездуховности современной молодежи. Все построено на материальном. Уход от Бога — вот в чем заключена трагедия человечества. Отсюда цинизм, неверие и, как следствие, частые случаи самоубийств (история Н. Писаревой).
Поэма Ивана Карамазова — исповедь Великого Инквизитора, потерявшего веру в Бога. Герой методично разбирает все три искушения Иисуса Христа. Его речь безжалостна. Он обвиняет Иисуса за свободу выбора, данную им людям, за веру в великую силу души.
Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас»14.
Рассказывая историю Натальи Писаревой в своем «Дневнике» и полемизируя в письме с Алексеевым, Достоевский хочет донести главную мысль: Бог наделил человека свободой, а значит, ответственностью; и нет такого зла в мире, ответственность за которое можно с себя снять: ибо «все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдается». Но ни Иван Карамазов, ни Н. Писарева не захотели принимать ответственности и возлагали вину и за совершающееся вокруг, и за творимое ими самими зло на других людей, на Бога.
Это позволяет считать, что именно диалог Достоевского с Алексеевым положил начало дискуссии на тему трех искушений Иисуса Христа в романе «Братья Карамазовы».
В. С. Соловьев, философ и поэт, говорил о Достоевском как о предтече будущего религиозного, теургического искусства (Теургия — буквально «благодеяние», «боготворчество»). По Соловьеву, это осуществление Божественной воли, признанное одухотворить действительную жизнь и воплотить в ней христианские идеалы добра, истины и красоты.
Христоликость положительных героев романиста поражает. Чарующий лик Христов — сердцевина их сознания. Они живут Им, чувствуют Им, мыслят Им. Через этих героев Достоевский переживает жизнь во всей ее полноте, в которой вечные истины и вечные радости сливаются в едином синтезе, которому нет конца.
Список литературы Библейский эпизод о трех искушениях Христа как тема диалога Ф. М. Достоевского и В. А. Алексеева
- Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 4 т. Т. III. «Письма». Госполитиздат. М., 1928-1959. С. 207.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 3. С. 25.
- Тареев М. М. Искушения господа нашего Иисуса Христа. Комментарий/Печатня А. И. Снегиревой. М., 1900.
- Гус М. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. М., 1971. С. 138.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 2. С. 248
- Голос минувшего на чужой стороне. Париж, 1927. № 5. С. 197.
- Закон Божий. Четвертая книга о православной вере. М.: Терра, 1991. С. 199.
- Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 12 т. Т. 11. М., 1982. С. 290.