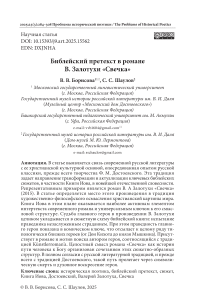Библейский претекст в романе В. Залотухи «Свечка»
Автор: Борисова В.В., Шаулов С.С.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляется связь современной русской литературы с ее христианской культурной основой, опосредованная опытом русской классики, прежде всего творчества Ф. М. Достоевского. Эта традиция задает направление трансформации и актуализации ключевых библейских сюжетов, в частности Книги Иова в новейшей отечественной словесности. Репрезентативным примером является роман В. А Залотухи «Свечка» (2015). В статье определяется место этого произведения в традиции художественно-философского осмысления христианской картины мира. Книга Иова в этом плане оказывается наиболее активным элементом интертекста современного романа и универсальным ключом к его смысловой структуре. Судьба главного героя в произведении В. Залотухи целиком укладывается в сюжетную схему библейской книги: испытание праведника незаслуженным страданием. При этом праведность главного героя показана в комическом ключе, что отсылает к целому ряду типологически близких героев (от Дон-Кихота до князя Мышкина). Присутствует в романе и мотив поиска автором героя, соотносящийся с традицией Künstlerroman’а. Целостный смысл романа «Свечка» как истории пути человека к Богу организован сочетанием этих сюжетно-образных структур. В полном согласии с русской литературной традицией, и прежде всего с традицией Достоевского, такой путь пролегает через символическую смерть и духовное воскресение героя.
Историческая поэтика, библейский претекст, сюжет, книга Иова, Достоевский, Валерий Залотуха, Свечка
Короткий адрес: https://sciup.org/147251698
IDR: 147251698 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15562
Текст научной статьи Библейский претекст в романе В. Залотухи «Свечка»
А нализ произведений современной русской литературы в русле исторической поэтики сопряжен с целым рядом фундаментальных проблем. Сложность согласования актуальной субъективно-эстетической оценки того или иного произведения текущей словесности и необходимой для литературоведа исторической перспективы лишь одна из них. Спорным может оказаться и сам выбор репрезентативного текста как предмета культурной рефлексии, а также поиск и формулировка принципов единства и целостности литературного процесса, включая современную литературу. Она, на наш взгляд, сохраняет потенциал русской православной культуры, хотя И. А. Есаулов, например, полемически утверждает обратное: «От великой русской культуры осталась разве что маленькая часовенка — что-то неуничтожимое» [Есаулов, 2013]. Именно это неуничтожимое зерно русской культуры, плодоносящее по сей день, является, с одной стороны, главной темой нашего исследования, а с другой — исходной точкой методологического поиска.
С наибольшей очевидностью связь современной литературы с классической традицией проявляется в различных формах интертекстуальности, связанных с реализацией ключевого христианского кода русской литературы, в том числе и «кода Достоевского». Автор «великого пятикнижия», разумеется, не единственный подобный посредник, однако, думается, что его влияние на развитие отечественной словесности в ХХ и ХХI вв. — одно из сильнейших. Интертекстуальный потенциал его произведений самым заметным образом проявляется в творчестве современных писателей.
В литературоведении и литературной критике последних лет распространен экстенсивный путь изучения феномена интертекстуальности в произведениях Новейшего времени, который чаще всего сводится к выделению и комментированию многочисленных цитат, реминисценций и аллюзий, отсылающих читателя XXI столетия к золотому веку отечественной словесности и ее христианским истокам1. Однако такой подход оставляет в стороне как содержательную типологию интертекстуальных приемов, так и проблему их функционирования в современной литературе. С теоретической и методологической точек зрения эти аспекты гораздо важнее, особенно с учетом того, что первичным прецедентным текстом в данном случае выступает Библия.
Проявления прямого и опосредованного обращения к ней в произведениях современных авторов разнообразны. Так, например, отсылки к Библии и к наследию Достоевского в текстах В. О. Пелевина по преимуществу носят формально-игровой характер [Шаулов, 2014; 2020: 268–269], лишь подтверждая изобретательность интертекстуальной игры в формировании авторской картины мира. В то же время, например, очевидные отсылки к «Братьям Карамазовым» и «Запискам из Мертвого Дома» Достоевского в романе З. Прилепина «Обитель» (2014) являются ключевым элементом его структуры, без которого он просто теряет глубину и художественную ценность.
Можно спорить о степени художественной состоятельности и самостоятельности современных авторов, проявляющейся в различных способах диалога с национальной духовной и литературной традицией, однако с историко-литературной точки зрения это два полярных варианта проявления преемственности в «большом времени русской культуры». Она, по мнению И. А. Есаулова, «зиждется на понятии абсолютного мифа <…> с его категорическим постулатом Воскресения» [Есаулов, 2017: 160].
Основное различие этих вариантов диалога с классической традицией — в том уровне смысловой «субъектности», который писатель нашего времени готов предоставить внутри своего художественного мира авторитетному претексту. В первом случае этот претекст используется как инструмент эстетической игры, часть картины мира, которую формирует современный автор; во втором — становится относительно, по крайней мере, равноправным и «заслуженным собеседником».
Последний вариант, без сомнения, представляется наиболее перспективным для историко-литературного изучения, в котором конкретные прямые и опосредованные интертекстуальные проявления, определяющие христианский контекст отечественной словесности, могут быть использованы как первая ступень к исследовательским обобщениям уже на уровне исторической поэтики русской литературы.
Ее развитие, о чем не раз писал В. Н. Захаров [Захаров, 2018, 2020, 2025], на наш взгляд, должно подразумевать распространение методологии исторической поэтики и этнопоэтики на актуальный литературный процесс, предполагая выявление и в нем культурного кода русской словесности. Аксиома содержательного единства русской культуры — при всех ее историкокультурных «разломах» и «развилках» — требует именно такого подхода.
Наиболее показательны в этом плане продуктивные творческие обращения современных писателей к христианским мотивам и сюжетам, являющимся фундаментом русской словесности. Один из самых репрезентативных примеров — роман В. А. Залотухи «Свечка» (2014).
Валерий Александрович Залотуха (1954–2015) известен больше как автор сценария к фильму «Мусульманин» (1995, премия «Ника»). Имели успех и его повести «Последний коммунист» (2000) и «Великий поход за освобождение Индии» (2006). Роман «Свечка» — его magnum opus, писавшийся, по свидетельству автора и его близких, больше десяти лет, в своеобразном «затворе» от современности (см., например, интервью с вдовой писателя Е. Лобачевской [Смирнова]). Умер писатель практически одновременно с премиальным успехом только что вышедшего романа «Свечка»: в 2015 г. ему была присуждена вторая премия «Большой книги» (первую получил роман Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза»).
Критиками роман В. Залотухи был оценен весьма положительно (см., напр.: [Беляков], [Бонч-Осмоловская]). Показательна формула Алексея Курилко: «Валерий Залотуха попытался (и ему удалось!) возродить традицию русского романа» [Курилко]. Следуя этой формуле, рассмотрим, как именно это «возрождение», обусловленное обращением к библейским образам и мотивам, происходит в романе «Свечка», учитывая тематически близкие труды в отечественном литературоведении (см., напр.: [Колпаков, 2017, 2018]).
Библейский контекст задается в книге В. Залотухи вполне традиционным способом — с помощью цитаты, вынесенной в эпиграф: «Был человек в земле Уц» (Иов. 1:1). Сюжет Книги Иова отражается в романе «Свечка» самым прямым образом. Главный герой, Евгений Золоторотов, несправедливо обвиненный в позорном преступлении, теряет всё: семью, свободу, дочь (она «выбирает» другого «отца»-покровителя), жену, мать (она от него отрекается), честь и даже как будто само место в бытии:
«Устав от формальных допросов, испытывая щемящую тоску от однообразного и неизбежного общения с сокамерниками, не радуясь малявам, в которых родные и близкие укоряли тебя и поучали, не пытаясь при этом даже приблизиться к испытываемым тобой страданиям — ты хотел теперь жить так, чтобы тебя никто не видел, никто не слышал, никто не знал…
Жить, но не быть.
Не быть, не быть, не быть!»2.
Оставляя пока в стороне особенности сложной, многоуровневой нарративной структуры романа, которая ярко проявляется и в этой цитате, отметим, что формула «жить, но не быть» появляется в сознании героя в момент его наивысшего страдания и наиболее радикального отказа от смирения перед явленной ему несправедливостью жизни — после попытки самоубийства, в следственном изоляторе, где он сидит по ложному обвинению. Тем не менее одним из лейтмотивов образа героя является его демонстративное жизнелюбие, многократно декларируемое и им самим, и автором уже в начале романа в трагикомическом размышлении героя о необходимости нового гимна для страны:
«А что если: "Я люблю тебя жизнь"? Согласен — песня, но какая!
А какая актуальная! Ведь самое страшное, что с нами за годы советской власти случилось, — мы жизнь, жизнь, как таковую, разлюбили… А эта песня, став гимном, поможет эту любовь вернуть. Я, можно сказать, с этой песней засыпаю и просыпаюсь, она давно мой личный гимн, и если бы не она, не знаю, что было бы…» (1: 92).
Периодическое обращение героя к этой песне — сквозной мотив в романе, проявляющийся в ключевых (и совершенно не располагающих к жизнелюбию) сюжетных перипетиях: то, когда герой арестован и сам еще не знает, в чем его обвиняют (1: 138), то — в колонии, где герой на время пропадает из поля зрения автора-рассказчика (1: 727). Глагол «люблю» для героя как будто становится главным оправданием всех жизненных неустройств: «люблю» неверную жену, «люблю» не свою дочь, «люблю» холодную мать, лживого друга и т. д.
Собственно, это и есть доступная Евгению Золоторотову форма «праведной» жизни — не умение, а последовательное желание полюбить жизнь «прежде логики» (как советовал брату Ивану Алеша Карамазов). Герой Залотухи не просто декларирует такую любовь: до самого момента своего тюремного отречения от бытия он сохраняет интеллектуальную, духовную активность, этически оценивает окружающий мир и в этой способности сохранять нравственное ядро своей личности находит опору даже в самых тяжелых испытаниях.
Так, во время одной из ложных сюжетных кульминаций (не приводящей к развитию и тем более к завершению действия — абсурдного побега Евгения Золоторотова и его пребывания на кладбище) он подвергается сильнейшему из своих искушений — искушению поверить в абсурд происходящего, принять бессмысленность как фундаментальное свойство мироздания.
Эта сцена, занимающая в романе несколько десятков страниц, — одна из самых интертекстуально насыщенных. Оказываясь в результате предшествующих абсурдно-невероятных сюжетных ситуаций на кладбище, персонаж Залотухи встречает там своего однокурсника по ветеринарному институту — Федьку по прозвищу Смерть. Полное имя этого собеседника — Федор Михайлович Смертнев.
Далее разворачивается сцена кощунственного застолья на кладбище, вызывающего определенные ассоциации с сюжетом «фантастического рассказа» Достоевского «Бобок»: Золоторо-тов вынужден пить вместе со Смертью и его приемным сыном — негром-альбиносом Ванюшей. Последний образ уводит читателя в пространство настоящего хтонического ужаса:
«…кожа его лица была белее светящейся белизной синтетики. То была еще более неестественная белизна — его как будто в хлорке вымачивали, с отбеливателем вываривали, забыв там и передержав <…>.
Несомненно, это было уродство, физическое уродство, и оно на этом не кончалось. Из-под толстых, словно сделанных из старой резиновой трубки синих губ, как доминошки, торчали вбитые так и сяк большие желтые зубы, а розовые поросячьи круги вокруг выпученных глаз придавали бедняге сходство со свиньей и одновременно с рыбой, поднятой на поверхность из неведомых морских глубин» (2: 443).
Появление этого персонажа переводит описание в мистическую плоскость. Дальнейшее — уже не просто устрашающая бытовая зарисовка, а настоящее «пиршество мертвых», в котором как будто участвуют и жители ада. Золоторотов становится свидетелем примечательного разговора «отца» и «сына»:
«Один Ванюшка не смеялся.
Дождавшись, когда все немного успокоятся, он спросил:
— А что он, есть, что ли?
— Кто? — не понял Федька. — Что есть-то?
— Бог.
— Какой бог? А, этот… Ты видишь, Жек, я говорю — не простой парень…
Но в наступившей тишине вновь раздался гортанный негритянский глас:
— Бога нет.
— Ну вот ты! — хлопнул себя по колену Федька. — Бьюсь, объясняю на живом примере, а он опять за свое. Ну, ты можешь хоть объяснить, почему так считаешь?
— Могу, — решительно мотнул головой белый негр и продолжил так же решительно: — Одно из двух: или я, или бог.
Белый негр улыбнулся, пожал плечами и объяснил:
— Если я есть, то его нету, а если меня нету, то он есть. А я есть… Значит, нет никакого бога…» (2: 453).
Здесь очевидны реминисценции из знаменитой сцены в романе «Братья Карамазовы» (главы «Смердяков», «Контроверза», «За коньячком»), значимые для понимания позиции героя В. Залотухи. Если ранее он рассуждал о своем агностицизме (и даже атеизме), стремясь к общению с «главным российским атеистом академиком Бассом» (есть и такая комическая сценка в романе), то, присутствуя при разговоре Федьки Смерти и негра-альбиноса Ивана, Евгений Золоторотов оказывается в положении Алеши Карамазова — нравственно чистого человека, попавшего в окружение, которое он не может ни покинуть, ни исправить.
Завершается этот эпизод трагикомическим бегством, погоней и отречением главного героя от своего заблуждения:
«— Или я, или бог! — услышал ты гортанный крик Тарзана и следом за ним звук удара.
Чпок!
Русский негр молотил без разбора по земле, оградам и надгробиям, по звездам и крестам, и страшные те удары приближались — хрясь! чпок! бум! бум! бум!
Он не видел тебя, но, возможно, чувствовал твое близкое присутствие.
И ты осторожно раскрыл черную книгу атеизма и, словно толстой двускатной крышей, накрыл ею свою светящуюся в темноте макушку.
"Ты, Господи, Ты, не он, а Ты! Ты, Господи, Ты, Ты, Ты!" — беззвучно завопило твое нутро, делая, наконец, выбор» (2: 464).
Здесь речь идет не о внезапном, под влиянием хтоничес-кого ужаса, обретении веры, а об отстаивании героем собственного взгляда на мир — взгляда, при котором мир продолжает иметь смысл. В этом плане сам искаженный облик Ивана, в котором уже нет ничего человеческого, ставит Золоторотова перед выбором: либо негр-альбинос, читающий словарь научного атеизма и убивающий собак и кошек (вспомним Смердякова!), либо Бог. В этом эпизоде герой сохраняет нравственное ядро своей личности, своего мировоззрения. Более того, осознает фундамент этого мировоззрения, впервые в романе обратившись прямо к Богу (написано с заглавной буквы «Ты»).
Отметим, что в романе Залотухи различное написание слова Бог / бог выполняет смыслоразличительную функцию, отражая отношение конкретного персонажа к вере или эмоционально и идеологически маркируя определенную сюжетную ситуацию. Например, в речи Слепецкого, осведомителя и бывшего писателя, с которым Евгений Золоторотов знакомится в тюремной больнице, это слово представлено в написании со строчной буквы:
«Глупейшее доказательство, но било в самую точку. Детям обезьяны ближе, чем какой-то бог. В сущности, дети те же обезьяны. Веселые, непоседливые и безответственные животные» (1: 200).
Показательно, что Золоторотов, находящийся в момент этого разговора в самом начале своего мучительного духовного пути, поддается собеседнику. В его ответной реплике слово «Бог» также написано со строчной буквы: «Выходит, бога нет, а черт есть? — спрашиваю я» (1: 201).
С другой стороны, уже отрекшаяся от него жена, мысленно обращаясь к Золоторотову, говорит:
«Умри, Жёлт, а? Ну почему ты не умер раньше, сколько раз ты мог это сделать и не сделал. А мы бы с Алиской на могилку к тебе приходили, ребенка ведь легче воспитывать на примере мертвого отца. Кстати, о мертвом отце… А я тут как-то в церковь зашла, свечку за тебя поставила к какому-то железному кресту. Бабка какая-то рядом стоит, за кого, говорит? Я говорю — за мужа. Давно помер? — спрашивает. Тут до меня только дошло, что здесь за покойников свечки ставят. Недавно, говорю. Так что для Бога ты уже умер, осталось для людей…» (1: 481–482).
В данном случае прописная буква отражает не отношение персонажа к Богу, а служит авторским маркером трагизма происходящего. Таким способом автор, «самоумаляясь», передает своим персонажам инициативу спора или нападения на главного героя (причем часто именно в тот момент, когда авторский голос с ним полностью слит), трансформируя и саму ткань повествования под описываемую ими реальность.
Именно поэтому Залотуха, изображая тюремные будни своего героя, активно использует жаргонизмы соответствующей среды, вплетая их даже в передачу внутренней речи Золоторо-това (см. выше: « малявы от близких»). Поэтому и заглавная буква в слове «Ты», обращенном к Богу (имеется в виду анализируемая выше сцена на кладбище), в речи Золоторотова приобретает значение исповедания веры, фиксирует его выбор и, в конечном счете, преодоление искушения.
Отказ от жизни и веры в ее осмысленность происходит позже, когда герой попадает в ситуацию, в которой уже невозможно сохранить минимальное внутреннее достоинство, в ситуацию «пресыщения унижением» (Иов. 10:15):
«Сразу после вынесения приговора (если кто забыл — двадцать один год строгого режима) из двухместной одиночки, номер которой как-то не запомнился, тебя перевели в общую сорок четвертую, войдя в которую, ты получил прицельный и страшный удар ногой в пах и, потеряв сознание, был избит и изнасилован. <…> …после чего тебя закатили брезгливо ногами под крайнюю у параши шконку, под которой ты провел уже в качестве опущенного следующие девять календарных дней. Впрочем, ты не знал, сколько времени прошло, время для тебя теперь не существовало, как не существует оно для умерших. Кончается жизнь — кончается время» (2: 621–623).
Последующая попытка суицида и погружение героя в отчаяние — момент его наиболее жестокого внутреннего кризиса, из которого он и переходит в состояние «жить, но не быть». Этому состоянию и этой мысленной формуле соответствуют жалобы Иова, проклинающего день своего рождения ( «И зачем Ты вывел меня из чрева? пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня; пусть бы я, как небывший, из чрева перенесен был во гроб!» (Иов. 10:18-19) ) и вызывающего Господа на суд ( «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом» (Иов. 13:3) ) .
Авторское описание аналогичного «внебытийного» жизненного опыта героя В. Залотухи заслуживает отдельного анализа:
«Это и на воле почти никому не доступно, разве что бомжам, а пребывающему в казенном доме за решеткой и подавно, но, что удивительно, за годы испытаний это удалось тебе по меньшей мере трижды: в общей набитой по самый затвор камере Бутырки ты научился уходить, погружая свою душу в величественное и губительное одиночество — раз; никто так и не узнал, да и мы до сих пор не знаем, где был ты, с кем общался и чем занимался во время своего нашумевшего на всю Москву побега — два; а обиженные3 "Ветерка" так тебя законспирировали, что отыскать своего главного героя среди невольников и насельников ИТУ 4/12-38 я смог лишь к концу подробного многосотстранич-ного повествования — три» (2: 212).
Прежде всего обращает на себя внимание коммуникативная структура этого отрывка. Он написан в форме прямого обращения автора к герою. Именно в этой форме написана значительная часть романа — в форме развернутой реплики автора к герою. Трудно отделаться от мысли, что В. Залотуха таким прямым, буквальным способом реализует бахтинскую концепцию «диалогического» романа, как и его мениппейную традицию.
Важно подчеркнуть особый статус субъекта повествования, (нарративные роли автора и рассказчика в романе В. Залотухи не имеют четкого разграничения), обладающего, в отличие от остальных героев романа, полнотой знаний о герое и о романном мире. В то же время эта полнота не абсолютна: рассказчик, к примеру, знает, чем герой «занимался во время своего нашумевшего на всю Москву побега», однако «теряет» его в колонии, историю и быт которой описывает тщательно, как будто «ищет» в ней своего персонажа. В этом также можно увидеть параллель к Книге Иова, в которой тоже есть мотив визуальной сокрытости героя: «Не увидит меня око видевшего меня; очи Твои на меня, — и нет меня» (Иов. 7:8). При этом в своем постоянном диалоге с героем автор всегда находится как бы на одном уровне с ним, в одном коммуникативном пространстве. Так формируется второй, подтекстуальный сюжет романа — поиск автором своего героя в окружающей их обоих абсурдной реальности.
Автор также периодически оказывается внутри своего произведения в качестве одного из эпизодических героев романа. В соответствующих фрагментах он вполне укоренен в романном мире и социально, культурно, исторически конкретизирован. Более того, он даже связан с героем сюжетно: Золоторотов лечит принадлежащую автору собаку в тот самый день, когда совершается завязка романного действия. Еще раньше оба они участвуют в обороне Белого дома в 1991 г.
Между автором и главным героем есть очевидная связь, которая устанавливается благодаря сходству фамилий (Зало-туха — Золоторотов) и возможности полностью видеть внутренний мир героя (при способности, однако, этого героя периодически «теряться» на пространстве романа). Однако более важным сходством рассказчика и героя является их онтологическое равенство перед лицом Творца — истинного «Автора» мира. Именно в параллели с Книгой Иова раскрывается смысл апокалиптической бури, происходящей в день третьей (и последней) встречи автора и героя — имеется в виду описание бури (Иов. 36–37) и финальный разговор Иова с Богом (Иов. 38–42). Прямой аналогией этого разговора является сцена бури в финале романа. Размах божественной, надчеловеческой силы — лейтмотив описания бури в «Свечке»:
«…там было в тысячу раз светлее, чем днем, там шли безжалостные и окончательные разборки между небом и землей, забившими смертельную стрелку именно здесь, в "Маяке": небо метало вниз бесчисленные молнии, земля отвечала грохотом и гулом.
Росшая в низине огромная ветла, черными ажурными узорами которой я любовался в вечерних сумерках, стелилась по земле, готовая на любое унижение, лишь бы уцелеть, но это плохо ей удавалось — неумолимый ветер обламывал ветки размером с деревья и, крутя, уносил, как былинки, в погибель.
Стоявшие на взгорке охранным частоколом молодые сосны ломались легко и хрустко, как карандаши, и их желтоватые обломки, словно щепки в мутном речном водовороте, исчезали в бушующей бело-зеленой мгле, — как будто невидимый карапуз-великан, играючи, ломал их там между пальцев и бездумно смеялся беззубым ртом: "Гы-ы-ы!"» (2: 853).
Библейский Иов перед лицом Господа отрекается от своего бунта. Такое же покаяние и отречение звучит в романе В. Залотухи:
«Нет, это была не гроза, это была не гроза… Силы оставили вдруг меня, ноги подкосились, — ощущая собственную ничтожность, я упал на колени и, вот тогда, как сукровица из разбитой коленки, из меня полезла, поползла та жалкая молитва: "Господи, не надо, Господи, пожалуйста, не надо, Господи, я больше не буду…"» (2: 852–853).
В контексте ветхозаветного претекста романа это отречение автора (и заодно героя, который в этот момент находится рядом с ним) однозначно ассоциируется с возгласом Иова: «И отвечал Иов Господу и сказал: вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, — теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду» (Иов. 39:33–35). Наряду с этим апокалиптическим переживанием автора и его героя показана и вторая жизнь последнего — новая семья, новые дети и новый дом. Так романное отражение сюжета Иова обретает в книге В. Залотухи свою завершенность.
В романе «Свечка» можно обнаружить и другие параллели с библейской книгой. К примеру, искушение, которому подвергает ветхозаветного патриарха его жена ( «И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри» (Иов. 2:9) ) , или жалобы самого Иова ( «.погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек!» (Иов. 3:3) ) в романе развернуты в письме первой, отрекшейся от Евгения Золоторотова, супруги:
«Единственное, чем бы ты мог мне сейчас помочь, это умереть. Умри, Жёлт, а? Ну почему ты не умер раньше, сколько раз ты мог это сделать и не сделал. А мы бы с Алиской на могилку к тебе приходили, ребенка ведь легче воспитывать на примере мертвого отца. <…> …для Бога ты уже умер, осталось для людей… <…>.
Зачем, скажи, ты родился, зачем появился на белый свет?
Почему твоя мамаша не абортировала тебя, ведь невесть от кого родила!
Почему не выскребли тебя скребком и не бросили в таз, когда не то что имени, но и пола еще нет!» (1: 481–482).
В свою очередь искушающие Иова диспуты с друзьями находят свое отражение в беседах и переписке Золоторотова с его другом Германом, сокамерниками и даже самим автором. Многочисленные и порой чрезвычайно широко развернутые вставные сюжеты в произведении В. Залотухи функционально и структурно схожи с притчами и аллегорическими примерами, характерными для библейских текстов.
Эти параллели однозначно говорят о принципиальной важности Книги Иова для интерпретации романа «Свечка» и о сознательном авторском намерении дать такой ключ читателю. Однако этим ключом следует пользоваться с известной осторожностью. Любой диалог с библейской традицией в рамках художественной литературы Новейшего времени подразумевает не простое воспроизведение риторического образца, но его трансформацию в рамках индивидуального художественного мира с учетом литературной традиции.
Классический пример — многочисленные «Иовы» Достоевского, которые, тем не менее, не являются прямым отражением ветхозаветного прообраза. Так, образ и жизненная история Мармеладова включают в себя не только очевидные мотивы Книги Иова, но и давно прокомментированные в науке о Достоевском отсылки к литературному типу «маленького человека» в его пушкинских (Самсон Вырин) и гоголевских (Баш-мачкин) вариациях (см. об этом: [Назиров]). В свою очередь штабс-капитан Снегирев, потерявший сына, подобно тому, как Иов теряет своих детей, повторяет одну из сцен «Станционного смотрителя», демонстративно отказываясь от денег Алеши Карамазова.
Соответственно, для исследования и описания художественного мира романа «Свечка» могут быть важны именно «точки расхождения» текста и претекста, то есть те аспекты художественной структуры, в которых роман, сохраняя связь с библейским началом традиции, до предела натягивает нить этой связи, отдаляясь от него на максимально возможное расстояние.
В произведении В. Залотухи такой точкой оказывается агностицизм (доходящий до атеизма) главного героя и его демонстративная внеположность православной церковной жизни (при этом хорошо знакомой в конкретных бытовых реалиях автору, судя по второй книге романа, которая включает в себя обширную вставную бытописательную повесть о внутри-церковной жизни рубежа ХХ–ХХI вв.).
В социокультурном плане герой Валерия Залотухи — типичный представитель позднесоветской городской интеллигенции. Очень характерно описан визит Евгения Золото-ротова в церковь, с которого начинается череда происшествий, приводящих ко всем дальнейшим испытаниям и искушениям героя. Золоторотов отчасти комично оправдывает этот визит перед самим собой литературным значением храма, в котором венчался Пушкин, но в его размышлениях отчетливо слышна уже авторская ирония по отношению к подобной цели посещения церкви:
«…а тут вдруг сложилось, и я, не раздумывая, вошел! (Это была церковь, в которой Пушкин венчался.) И поставил там свечку. (В простодушном смысле.) Даже не знаю, почему и зачем я это сделал (в смысле — поставил свечку), потому что добрым делом это никак не назовешь, в самом деле, заплатил денежку, запалил, поставил — какое же это доброе дело?» (1: 167);
«Это как если бы мужчина в женское отделение Сандуновских бань собрался, там тоже интересно, но ведь ты не женщина… Так и здесь: раз ты не крещеный, то и нечего тебе в церкви делать! Порядок есть порядок, принцип есть принцип! Но это с одной стороны, и вообще… А с другой и в частности, я давно хотел в этот московский храм попасть, потому что ровно за сто двадцать пять лет до моего рождения, день в день, в нем венчался Александр Сергеевич Пушкин, который лично для меня даже больше, чем всё» (1: 181–182).
При этом христианская проблематика и топика так или иначе проявляют себя на всем протяжении повествования. Христианский подтекст порой «подсвечивает» подлинным трагизмом самые абсурдно-безысходные сцены романа: например, сцену исполнения романса на стихи Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…» продажным прокурором, в котором Золоторотов «при полном реализме» действительно находит человека.
Этот же подтекст отличает риторику самого героя, неосознанно цитирующего Евангелие и поступающего согласно императиву, к которому он невольно обращается. Такова, в частности, функция формулы «за други своя» во внутреннем монологе героя, с которой начинается роман и которая трагически управляет действиями Золоторотова после ареста.
Наконец, тот же подтекст звучит и в авторском повествовании в одном из самых значимых мест романа, в его финале:
«Уезжая от своего героя (после бури и покаяния), автор встречает на дороге некоего человека: впереди был ровный участок дороги, и я придавил, но как только "Василек" набрал предельную для себя скорость, увидел вдруг идущего в сторону "Маяка" по лесной тропе человека. Он шел быстро, подавшись вперед, не обращая внимания на пролетающую мимо машину.
Я не успел его разглядеть, не успел понять — кто.
Жил, Шиш, отец?
Отец?!» (2: 860).
Автор подчеркивает сюжетное значение этой встречи, не раскрывая, однако, ни ее последствий для героя, ни личности идущего. При этом каждый из предложенных вариантов отгадки дает читателю разный ключ интерпретации: герой обретет либо ученика и последователя, либо оппонента («Шиш» и «Жилбылсдох» — прозвища «сидельцев» в колонии, где заключен и герой), либо отца (последнее — наиболее символически значимая возможность).
Неузнавание идущего — важнейший мотив последних евангельских глав («Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его» (Лк. 24:15–16); «А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус» (Ин. 21:4)). Именно этим мотивом завершается подтекстуальный сюжет романа — сюжет связи, даже двойничества героя и автора и их совместного прямого «взыскания Бога»4.
Так многослойная повествовательная структура романа венчается, по сути, открытым финалом: ответ Бога на историю Евгения Золоторотова загадочен — так же, как силами логики неразрешима до конца коллизия библейского Иова.
С другой стороны, христианский контекст романа проявляется и на уровне социально-психологической характеристики главного героя. Золоторотов от начала до конца огромного повествования призывает окружающих и сам активно стремится преображать, просвещать и просветлять окружающую среду, создав для этого целую комическую программу ДДД («День добрых дел»), активно защищая свое видение мира и людей (иногда вопреки жестокой реальности).
Поведение и мировосприятие такого героя вызывают вполне определенные ассоциации. Прежде всего, это, разумеется, князь Мышкин (показательно, что при всем обилии «достоевских» аллюзий именно о романе «Идиот» автор старательно не вспоминает). Мечтательность Золоторотова в сочетании с идеализмом и энтузиазмом отсылает читателя и к Дон Кихоту. Специфическая смеховая реакция окружающих, традиционная для литературного представления этого типа, сопровождает героя Залотухи на всем протяжении романа.
Однако за сочетанием бытового комизма с возвышенноидеалистическим восприятием мира стоит не только литературная традиция. Роман имеет авторскую ремарку: «Человек пошел защищать демократию, а встретил Бога». Это, с одной стороны, ироническая отсылка к сюжетной встрече героя и его творца на баррикадах 1991 г. С другой же стороны, в этой формуле содержится переход от мирского, исторически-сиюминутного — к Вечному и четкое указание на финал романа «Свечка» (прямая встреча героя и автора с Богом — во время бури). Исход этой встречи не рассказан читателю до конца (хотя Залотуха старательно, даже демонстративно завершает сюжетные линии всех или почти всех второстепенных героев). Более того, в финале романа автор «обнуляет» свои творческие усилия, как бы повторяя еще раз отречение Иова от своей воли («...я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42:6)):
«…ну и пусть — какой сам, такой и герой, какой автор, такой и роман, зато он у меня большой, в четырех частях, с приложениями и эпилогом, хотя можно целиком не читать, достаточно любую часть прочитать, достаточно одно название прочитать — нашел, чем гордиться, дурак» (2: 861).
При этом писатель использует прием «ограниченно все-ведующего» автора, который, отказываясь от права воздействовать на романный мир, прячет свою мысль внутри речи героев, периодически позволяя им стилистически воздействовать на повествование. Эта особенность авторской стратегии, направленной на формирование полифонической художественной системы, в которой голоса героев «независимы» от авторской воли, усложняет, «раздваивает» интертекстуальную природу романа.
На уровне авторской мысли обращение к претекстам имеет характер прямого, интерсубъектного диалога. Залотухе важно и живое слово Достоевского, и вечные библейские смыслы — как универсальный критерий этической оценки в его романе. Такое обращение современного автора к классике можно рассматривать «как семантическое событие, повышающее эстетическую авторитетность претекста» [Прощин: 181].
На собственно нарративном уровне такая авторская стратегия приводит к периодическому травестированию фундаментальных смыслов — например, в диалоге Золоторова со Слепецким, когда главный герой романа неосознанно пародирует сцену из «Братьев Карамазовых» («выходит, бога нет, а черт есть»).
Эти уровни периодически акцентируются в сопряжении. Так, в финальной сцене бури травестийные тенденции спрятаны, но полностью не удалены. Они проявляются, например, на лексическом уровне во фразе «разборки между небом и землей, забившими смертельную стрелку» (2: 853), представляющей собой стилистический оксюморон, соединяющий уголовный жаргон и пафос ужаса. Соединение стилистически не соединимых средств пронизывает всю сцену и в более или менее явном виде проявляется на протяжении всего романа.
Подобное травестирование, или сознательная смысловая редукция «высокого» претекста, — ключевой прием постмодернистской техники письма. В романе «Свечка» мы имеем дело с ее искусной имитацией. По сути, Залотуха маскирует (причем, по нашему мнению, вполне сознательно) свой текст под игровое повествование, только постепенно, по мере нарастания трагического начала, открывая глубинный смысловой уровень произведения, в котором история Иова становится философско-религиозной основой для сюжета о поиске героя (по сути, сюжета Künstlerroman’а5), составляющего важную часть художественной структуры романа «Свечка». Одновременно с этим судьба Иова переосмысляется как история пути человека навстречу Богу (или на встречу с Богом). В полном согласии с русской литературной традицией, и прежде всего с традицией Достоевского, такой путь пролегает через символическую смерть и духовное воскресение героя. Не говоря уже о том, что сам прием контаминации и контекстуального расширения «вечных сюжетов», которым активно пользуется В. Залотуха, в русской культуре опробован и «узаконен» именно Достоевским.
Таким образом, диалог с библейской традицией в рамках художественной литературы Новейшего времени не может быть прямым: он опосредован лежащим между собеседниками пространством культуры. В случае с романом «Свечка» — это прежде всего русская классическая литература, для которой библейская Книга Иова стала одним из главных претекстов.
Однако недостаточно обнаружить и прокомментировать факт использования этого арсенала. Необходимо определить способ «общения» современных литераторов с классическим литературным претекстом как посредником между современностью и христианской основой русской культуры: это могут быть, как мы отметили в начале статьи, эстетическая игра или «диалог» с равноправным и «заслуженным собеседником».
Валерий Залотуха со всей очевидностью реализует второй вариант. Для него произведения Достоевского и Книга Иова — авторитетные претексты, «живые собеседники», в диалоге с которыми укрепляется связь современной литературы с ее христианской культурной основой, опосредованной опытом классики.