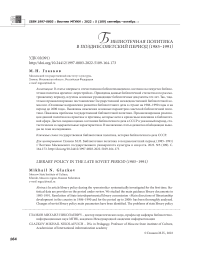Библиотечная политика в позднесоветский период (1985-1991)
Автор: Глазков Михаил Николаевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурные практики
Статья в выпуске: 5 (109), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые в отечественном библиотековедении системно исследуется библиотечная политика времени «перестройки». Приведены данные библиотечной статистики по рассматриваемому периоду, изучены основные руководящие библиотечные документы тех лет. Так, тщательно проанализировано постановление Государственной межведомственной библиотечной комиссии «Основные направления развития библиотечного дела в стране на 1986-1990 годы и на период до 2000 года». Выявлены изменения основных параметров советской библиотечной политики. Показаны проблемы государственной библиотечной политики. Проанализирована реализация данной политики на практике и причины, которые вели к кризисным явлениям в библиотечной сфере. Дается сводная оценка состояния библиотечного дела в СССР в указанный период, статистические и содержательные характеристики. В заключение статьи делаются обобщающие выводы по теме исследования.
Государственная библиотечная политика, история библиотечного дела ссср
Короткий адрес: https://sciup.org/144162487
IDR: 144162487 | УДК: 02(091) | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-5109-164-173
Текст научной статьи Библиотечная политика в позднесоветский период (1985-1991)
Много лет назад автор вступил на путь исследования истории библиотечного дела в советскую эпоху. Все началось с первого послереволюционного периода – Октября 1917–1924 гг. За 30 с лишним лет научного труда сделано немало, что нашло отражение в десяти авторских книгах и т. д. [6; 10; 5; 8]. И вот теперь мы, наконец, можем обратиться к завершающему хронологическому отрезку существования СССР, начавшемуся с прихода М. С. Горбачева к высшей власти и закончившемуся разрушением советского государства.
Период 1985–1991 гг. совершенно не изучен библиотековедением. Одно это требует его исследования, не говоря о значимости и «запутанности» периода горбачевской «перестройки». Замечу, что это время лично моего вступления в классическую библиотечную профессию. События тех далеких лет окрашены для меня в цвета очевидца.
Состояние отечественной библиотечной сферы к 1985 г. было неоднозначным. С одной стороны, имелись общемировые рекордные показатели библиотечной статистики. В начале 1980-х гг. количество библиотек всех типов и видов в СССР равнялось 350–360 тысячам. К 1983 году совокупный библиотечный фонд увеличился до 5 млрд экземпляров. Суммарное число читателей библиотек к 1986 г. составляло около 220–230 млн. человек [2, с. 325–326; 11; 8, с. 92–93; 15; 17, с. 33]. В марте 1984 г. Президиумом союзного Верховного Совета было утверждено «Положение о библиотечном деле в СССР», включавшее все передовые для социалистической библиотечной отрасли установления [17, с. 9–20].
С другой стороны, уровень государственной библиотечной политики со второй половины 1970-х гг. снижался. Более того, ряд важнейших направлений этой политики становился неадекватным, инерционным и даже деструктивным и фактически подрывал советское библиотечное строительство.
Вскоре после прихода М. С. Горбачева к власти были изданы документы, связанные с библиотечной политикой государства. Поначалу каких-либо кардинальных изменений в них не наблюдалось. Например, в постановлении ЦК КПСС от 12 июня 1985 г. «О мерах по улучшению использования клубных учреждений и спортивных сооружений» сохранялась сугубо советская дорогостоящая, но перспективная идея создания культурноспортивных комплексов (КСК). В постановлении требовалось «завершить в основном в 1985–1987 годах организацию в городах и районах страны культурно-спортивных комплексов». Также было намечено укрепить дополнительно клубные учреждения, особенно на селе, квалифицированными кадрами, создать им необходимые жилищно-бытовые условия; расширить прием в институты культуры и физической культуры сельской молодежи; при распределении молодых специалистов «…в первую очередь учитывать потребности сельских районов страны, особенно Нечерноземной зоны РСФСР, Сибири и Дальнего Востока» [19, с. 582–586]. Понятно, что в новых условиях «перестройки» выполнение решения ЦК партии постепенно сошло на нет.
Даже на главном форуме СССР – XXVII съезде КПСС, прошедшем в феврале-марте
1986 г.,– ничего нового и знаменательного для библиотечной сферы страны не прозвучало. Перед ней ставились стандартные, много раз прежде озвученные цели и задачи [17, с. 78–79].
«Ветер перемен» в библиотечной отрасли стал совершенно очевиден после январского 1987 г. Пленума Центрального комитета партии. Вообще этот Пленум, как считают современные историки [16; 18], явился поворотным и знаковым в рассматриваемый период. На нем произошли важные кадровые изменения. Так, кандидатом в члены Политбюро ЦК стал едва ли не главный «прораб» перестройки А. Н. Яковлев (всего через 5 месяцев переведен в полноправные члены этого высшего руководящего органа) и т. п.
Впрочем, подобные кадровые перестановки осуществлялись с первых месяцев прихода М. С. Горбачева к власти. К примеру, одного из главных его оппонентов Г. В. Романова убрали с поста члена Политического бюро ЦК КПСС уже в июне 1985 г. Но помимо очередных кадровых воздействий на январском 1987 г. Пленуме произошло коренное изменение избирательной системы страны. По предложению М. С. Горбачева, чтобы преодолеть факторы, «тормозящие перестройку» и активизировать «инициативу масс», вводились выборы в органы власти разного уровня на альтернативной основе согласно «демократическим принципам».
Сразу после январского Пленума и в духе его решений окончательно формируется так называемая «политика гласности», формальный отказ от цензуры и т. д. Можно говорить о начавшемся обвале каркаса советской идеологии, который к 1990–1991 гг. перешел в политическую капитуляцию перед коллективным Западом.
Библиотеки как идеологические учреждения не могли не отреагировать на принципиальные перемены в государственной политике. Вся их деятельность, начиная от комплектования фондов, организации массовых мероприятий и до индивидуального обслуживания читателей, оказалась серьезно скор- ректирована. Впоследствии эти изменения только нарастали.
Наиболее крупным по своему содержанию документом наступившего «горбачевского» периода стало решение Государственной межведомственной библиотечной комиссии от 18 мая 1987 г. «Основные направления развития библиотечного дела в стране на 1986–1990 годы и на период до 2000 года» [17, с. 32–50]. Оно требует внимательного прочтения, аналитики и комментариев.
Как было принято в СССР, документ начинался с перечисления достижений библиотечной отрасли: «По сравнению с 10-й пятилеткой число читателей библиотек увеличилось более чем на 5 %, библиотеками пользуется более 230 млн читателей. Ежегодная книговыдача возросла почти на 11 % и превысила 6 млрд. экземпляров. < ^ > За годы 11-й пятилетки подготовлено около 106 тыс. специалистов с высшим и средним библиотечным образованием. В настоящее время почти 60 % работников массовых библиотек имеют специальное библиотечное образование» [17, с. 33–34].
Тем не менее идеологическая и воспитательная деятельность библиотек не соответствовала требованиям времени. Сами библиотекари плохо разбирались в литературе, которую надо было пропагандировать. Читательский спрос на художественную и детскую литературу удовлетворялся не полностью. Не был организован разумный и интересный досуг молодежи в библиотеках.
ГМБК подтвердила недостатки проведенной библиотечной централизации: «Распространенным явлением продолжают оставаться неравномерное распределение литературы между филиалами централизованных библиотечных систем, необоснованное направление в центральные библиотеки большей части новых поступлений». Межбиблиотечный абонемент по-прежнему работал с заметными сбоями. Библиотеки разных ведомств действовали рассогласованно. Не удалось преодолеть географическую неравномерность в размещении библиотечной сети по стране.
Острой оставалась проблема подготовки, распределения и закрепления библиотечных кадров. Их текучесть фактически не снижалась. Причиной являлось слабое материальное обеспечение (от зарплат до жилья), особенно молодых библиотекарей.
Имелись большие претензии к сфере управления библиотечным делом. «Не разработана методика межведомственного планирования развития библиотечного дела. <...> Нет должной координации в < ^ > выявлении, пропаганде и распространении передового библиотечного опыта. Отсутствуют современные научно обоснованные критерии оценки деятельности библиотек, что в значительной мере ограничивает возможность организации творческого соревнования между библиотекарями. < ^ > Органы культуры и методические центры традиционно измеряют деятельность библиотек по количественным показателям, что в ряде случаев приводит к припискам, искажению объективного состояния библиотечного обслуживания населения» [17, с. 35–36].
В завершении «негативной части» показывались недостатки профильных научных исследований и отмечалась хронически отстающая материально-техническая база библиотек. В целом в документе была дана адекватная картина состояния советской библиотечной сферы.
Однако разработчики комментируемого решения ГМБК от 18 мая 1987 г. еще были настроены оптимистично. Чего стоит хотя бы такой пассаж: «В 12-й пятилетке предстоит поднять на качественно новую ступень все библиотечное дело в стране, преодолеть ошибки и недостатки в работе, направить потенциал библиотек на выполнение задач, выдвинутых XXVII съездом КПСС».
Перед библиотеками СССР ставились на 1986–1990 гг. (и опосредовано на долгосрочную перспективу до 2000 г.) значимые и крупные задачи. Помимо общих благопоже-ланий (повысить, улучшить и т. п.), имелись, разумеется, конкретные цели. Любопытно, что одной из первых упоминалась следующая: «Углубить совместную работу библиотек, телевидения, печати и радио по пропаганде лучших книг и возможностей библиотек» [17, с. 37]. Общество все яснее понимало значение СМИ, но развитие «перестроечного» телевидения и радиовещания пошло не по просветительскому направлению, а от слова «наоборот».
Очевидными причинами здесь стали коммерция и политика. Просвещение никогда не приносит сиюминутной коммерческой прибыли, а в годы перестройки все оказалось заточено именно под нее. Кроме того, политические манипуляторы, пришедшие к власти, были совершенно не заинтересованы в просвещении народа. Ведь малообразованными, непонимающими сути происходящего людьми всегда легче управлять.
Из других задач, заявленных ГМБК, обратим внимание на углубление политики библиотечной централизации в 1986–1990 гг. Так, надлежало «Закончить полную или частичную централизацию медицинских, сельскохозяйственных библиотек. Продолжить эксперименты по межведомственной централизации государственных детских и школьных библиотек».
Осознавая, что коренным недостатком провозглашенной централизации явился неэффективный и формальный межбиблиотечный абонемент, ГМБК подчеркнула его важнейшую функциональную роль: «Расширить и активизировать участие библиотек в единой общегосударственной системе МБА, добиться использования МБА всеми библиотеками системы МК СССР. На всех уровнях системы принять меры к сокращению сроков прохождения требований, повысить полноту удовлетворения заказов по МБА».
Вновь мы должны указать на невыполнение этого ключевого задания ГМБК даже массовыми библиотеками, не говоря уже о межведомственном МБА. Библиотечные работники так и не получили мотивацию на довольно затратные по времени и хлопотные операции по формированию, отправке заказов по МБА, получению литературы, контролю над ней и последующему ее возврату. Итог – единичные случаи применения МБА в советских библиотеках, неинформирова-ние и/или дезинформация библиотекарями читателей об их реальных правах и возможностях, предоставляемых межбиблиотечным абонементом.
Следует отдать должное анонимным специалистам-разработчикам документа. Они выделили практически все болевые точки библиотечной деятельности того периода, более того, квалифицированно обратились к перспективе. Так, в частности, надлежало «принять меры по созданию Государственной автоматизированной библиотечной системы (ГАБС) страны, включающей комплексное оснащение библиотек средствами автоматизации и механизации; координировать развитие автоматизированных информационно-библиотечных систем различных ведомств, обеспечить их взаимодействие с ГАСНТИ».
Актуальными для качественного углубления централизации были планы «создания новых типов библиобусов», ежегодных поставок библиотечной отрасли СССР по 1000 «автобиблиотек», включая 300 машин повышенной проходимости. В целом ставилась задача «технического перевооружения единой библиотечной системы страны» [17, с. 45].
Во второй половине 1980-х гг. библиотеки не могли стоять вне научно-технического прогресса, достижений «электронновычислительной и иной новой техники». Следовало принять меры «к широкому внедрению автоматизации процессов комплектования и обработки библиотечных фондов, обслуживания читателей, управления библиотекам». Сегодня мы знаем, что и эта задача не была выполнена в указанный срок. И дело далеко не только в отсутствии финансовых ресурсов. Нам очевидны просчеты на высшем управленческом уровне, в частности, в недооценке значимости компьютеризации библиотечного дела. Причем, подобные изъяны в государственной библиотечной политике закономерно рождают вопрос о низкой квалификации высоких руководителей или их сознательном бездействии.
В 2010-х – 2020-х гг. популярной у нас стала концепция библиотеки как «третьего места». Но данная идея отнюдь не нова и не оригинальна. В рассматриваемом документе, например, особо отмечалась задача «всемерного содействия» деятельности библиотек по организации досуга населения. При возможности следовало «создавать на базе библиотек центры эстетического воспитания, центры развития любительских интересов, центры досуга и др. < ^ > Провести Всесоюзный смотр-конкурс массовых библиотек под девизом «Книга, библиотека и досуг населения» [17, с. 39–40].
После январского 1987 г. Пленума ЦК КПСС не удивляет ряд «перестроечных» фрагментов документа ГМБК: «Последовательно проводить линию на демократизацию в библиотечном деле, усиление гласности работы библиотек, организацию общественного контроля за их деятельностью», «Расширять в библиотеках разных ведомств предоставление платных услуг читателям» [17, с. 48; 41].
И в то же время ГМБК обязывала «коренным образом углубить изучение процессов, характеризующих кризис буржуазного библиотековедения; развивать наступательный характер критики взглядов буржуазных идеологов в области библиотечного дела. <^> Развивать на равноправной и взаимовыгодной основе связи с библиотеками капиталистических стран, используя их для …разоблачения антинародной агрессивной сущности империализма, его политики и идеологии» [17, с. 49].
Итоговую характеристику данного решения ГМБК можно свести к следующему. Его содержание, несомненно, было конструктивным и актуальным для библиотечной деятельности в СССР. Если хотя бы часть планов оказалась реализована, советские библиотеки вышли бы на новый уровень библиотечного обслуживания народа. Однако комментируемый документ ГМБК – показательный пример невыполнения заявленных задач. Он, к сожалению, остался в библиотечной истории лишь набором правильных, позитивных фраз.
Пожалуй, последней попыткой как-то «сдвинуть» к лучшему проблему комплектования библиотек в советское время стало «Положение об издании и размещении общесоюзной Библиотечной серии», утвержденное Министерством культуры СССР и Госкомиздатом СССР 16 февраля 1988 года. Эта Серия предназначалась, в первую очередь, для государственных массовых и профсоюзных библиотек, а также – для библиотек университетов и вузов.
Задумывалось, что в «Библиотечную серию» войдут «лучшие книги в идейном, научном и художественном отношении по всем отраслям знания, рассчитанные на широкие круги читателей» [17, с. 279]. Ежегодно планировалось издавать от 70 до 100 названий с тиражностью, «удовлетворяющей потребности библиотек страны». Список выпускаемых книг утверждался совместным приказом Госкомиздата и союзного Министерства культуры.
«Библиотечная серия» формировалась по результатам анализа читательского спроса, состояния библиотечных фондов и заказов большинства библиотек страны. Государственная библиотека СССР им. Ленина представляла в Министерство культуры предложения к трехлетнему плану целевого издания книг для библиотек. Учитывая потенциально большую популярность серии, а зна- чит – и быструю ее изнашиваемость, целевой выпуск предусматривался «…в улучшенном полиграфическом исполнении и, как правило, в твердых переплетах» [17, с. 281].
Планировались и меры контроля над изданием и поступлением в библиотеки литературы в рамках «Серии». Контролирующими органами становились Минкульт и Госкомиздат, аналогичные структуры в союзных республиках, ГБЛ и государственные республиканские библиотеки.
Но после 1988 г. в библиотечном деле СССР начался спад, переходящий в обвал. В экономике, идеологии и социуме страны пошли процессы столь разрушительной силы, что про «твердые обложки» и саму «Библиотечную серию» можно было забыть.
Характеризуя развал отрасли в 1989– 1991 гг., начнем с финансирования библиотек. Оно и раньше было далеко не оптимальным, «остаточным». Но теперь пошел фактический отказ государственной власти от поддержки «нерентабельных учреждений», к которым, естественно, отнесли библиотеки. Он объяснялся, в том числе, общим экономическим упадком СССР в результате «перестроечных» экспериментов в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и т. п. Заметим, что обыденной и тривиальной стала практика невыполнения громогласно заявленных с высоких трибун целей и задач.
Крупные удары по союзной экономике были нанесены «странными» катастрофами в Чернобыле, Спитаке, Арзамасе и др. Все они требовали крупных, а подчас – гигантских ресурсов на преодоление последствий, заметно подрывали союзный бюджет. Например, Чернобыльский саркофаг стал одним из самых дорогостоящих объектов в Новой истории человечества.
Одновременно бывшие братские республики, вставшие на путь выхода из СССР, напоследок рвали бюджет умирающего государства по принципу «кто сколько проглотит». Высшая власть отстранилась от защиты общесоюзных интересов, фактически поощряя сепаратизм в любых проявлениях.
Неудивительно, что в бедственных обстоятельствах конца 1980-х гг. в отрасли снова появляются и поддерживаются прессой идеи платности библиотечного обслуживания. Их начинают пропагандировать даже некоторые библиотечные специалисты, не знакомые с профильной историей. Как хорошо известно нам, историкам, введение платности неотвратимо приносило немало вреда библиотечной сфере и в XIX, и в XX столетиях [6, с. 27–52].
Вот и в конце «перестройки» платность в библиотеках не помогла выйти из системного кризиса, а только углубила его. Сколько-нибудь серьезных финансовых средств библиотечным «менеджерам» собрать не удалось, зато малообеспеченные читатели, коих оказалось так много в массовых библиотеках, вынужденно отказывались от ставших платными библиотечных услуг.
Официальная статистика засвидетельствовала уменьшение числа читателей, посещений и книговыдач в стране уже в первые годы перестройки. Так, контингент читателей общедоступных библиотек в СССР уменьшился со 150 млн человек в 1985 г. до 141,5 млн. в 1988-м. Тогда же книговыдача снизилась с 3,2 млрд. на 300 млн. единиц. Если в 1986 г. библиотеки посетили 116,5 млн. человек, то в 1988 г.– только 103 млн. и т. п. [1, с. 119]. После 1988 г. «процесс пошел» еще резче.
В конце рассматриваемого периода начинается организация библиотечных общественных объединений. Однако хорошая в принципе идея не дала серьезных результатов. Библиотечные ассоциации не получили реальных полномочий и ресурсов, которые необходимы для эффективной деятельности. В связи с этим в рассматриваемый период библиотечным общественным структурам мало что удалось осуществить. Подчас они превращались в место периодических (примерно раз в месяц) встреч и разговоров небольшой группы местных библиотечных активистов.
Не хочу сказать, что они были вовсе бесполезными. Сам несколько лет участвовал в работе Московской библиотечной ассоциации, правда, чуть позднее: в середине 1990-х гг. Но остается фактом, что противостоять нараставшему системному кризису отрасли в годы горбачевской «перестройки» библиотечные общественные объединения ни в коей мере не смогли.
Еще один процесс, запущенный в исследуемый период – это формальный отказ от идеологической цензуры в стране. Действительно, в русле политики «гласности» с 1987 г. в библиотечной сфере постепенно снимались советские догматические «перегибы», что, с одной стороны, положительно отразилось на содержании фондов библиотек и обслуживании читателей. В обществе появилось множество новых идей, оценок, подходов и т. п. 25 октября 1991 г. был ликвидирован Главлит СССР, цензурное ведомство, в свое время наводившее ужас на ученых, деятелей искусства, писателей и их читателей [4]. Однако в конкретно-исторических обстоятельствах «перестройки», как это ни печально, отказ от цензуры привел к разбалансированию сложившихся государственных и идеологических устоев, «раскачиванию лодки», дестабилизации ситуации в нашей стране, резкому взрыву сепаратизма и т. п., что стало одним из действенных факторов развала СССР.
Следует отметить и изменения в области международного библиотечного сотрудничества. Стали убираться разнообразные «занавесы», ограничения, взаимные санкции. Тем не менее и здесь все было неоднозначно. Конечно, взаимодействие с ведущими библиотечными державами имело свои очевидные положительные стороны. Но довольно скоро выяснилось, что международное сотрудничество происходит не на равноправной основе. СССР отдавал больше, чем получал от зарубежных стран.
Руководители советского библиотечного дела, директора крупных библиотек, научно-административная элита стали ездить в загранкомандировки, участвовать в интернациональных мероприятиях за счет принимающей стороны, получать гранты. Но за подобные удовольствия приходилось время от времени «учитывать интересы» ино- странного партнера. К сожалению, нередко они учитывались за счет интересов советской библиотечной сферы и отечественных читателей, которые фактически «обкрадывались» в разных формах.
Начались стажировки студентов и молодых специалистов в США, Европу и прочие богатые страны. Но немало наших соотечественников, прошедших данные мероприятия, в итоге уехали туда надолго или навсегда, укрепляя мощь коллективного Запада. Осуществлялась обширная «утечка мозгов и талантов», сильно ударившая по нашей науке, образованию, культуре, экономике и др.
Общий упадок СССР в годы «перестройки» запустил и такой ослабляющий отрасль процесс, как реституция библиотечных коллекций. Вопреки всем международным договоренностям, принятым на Ялтинской и Потсдамской конференциях в 1945 году [14; 12], от нашей страны начали требовать возврата фондов, вывезенных из Германии после Победы над нацизмом. Отметим, что перемещенные в Советский Союз коллекции явились законной и справедливой, хотя далеко не полной, компенсацией гигантского ущерба, нанесенного агрессией Третьего Рейха против нашей родины. Напомним, что военные потери совокупного советского библиотечного фонда составили, по разным оценкам, от 150 до 200 млн экземпляров. Для сравнения: в победивший СССР поступило из Германии около 10 млн. экземпляров. [12, с. 80, с. 119; 13].
Помимо вывода ценных библиотечных ресурсов из нашей страны реституция времени «перестройки» имела сильное негативное психологическое воздействие на библиотечную общественность. Последняя видела открытое разрушение отечественной библиотечной сферы, фактически поощряемое властями под предлогом соответствия неким «общечеловеческим ценностям». Библиотечный профессионалитет оказался на годы ввергнут в состояние депрессии и апатии, не мог активно противостоять разраставшимся деструктивным процессам.
Что касается подготовки библиотечных кадров, то в 1985–1991 гг. еще сказывалась положительная сила инерции. В «брежневском» СССР удалось окончательно сформировать действенную, классическую, очевидно, лучшую в мире систему библиотечного образования [7; 9; 3]. «Человеческий капитал» тяжело и долго приходится создавать, но он и более устойчив, разрушается заметно медленнее, чем материальные ресурсы.
Благодаря советским «золотым кадрам» педагогов, удавалось поддерживать профессиональное образование на достойном уровне, несмотря на усиливавшийся в стране системный кризис. Однако и здесь все больше проявлялись негативные последствия «перестроечных» парадигм. Часть преподавателей, особенно молодых, уходила в кооперативы и аналогичные коммерческие структуры, массово плодившиеся в тот период. В стране падал престиж высшего образования в целом, и библиотечного – в частности. «Свободные» СМИ пропагандировали идеологему о деньгах как главной ценности человеческой жизни. В результате выпускники школ гораздо реже мечтали стать космонавтами и учеными, открывая для себя бандитскую и бордельную «романтику».
Оборудование вузов и техникумов все больше отставало от достижений научнотехнической революции, в учебных лабораториях не имелось средств автоматизации и компьютеризации и т. п. Ухудшалось состояние полиграфической базы образовательных учреждений, тиражи учебно-методической литературы издавались в недостаточном количестве. На фоне дестабилизации жизни в СССР высококвалифицированные педагоги задумывались о переезде в более благополучные страны, и довольно многие реализовали эти замыслы.
Исследуя «горбачевский» период истории в целом, особенно 1988–1991 гг., обнаруживаешь отсутствие крупных событий и конструктивных руководящих документов в библиотечной жизни нашей страны. Это говорит о кризисе отрасли, неприкрытом невнимании к ней со стороны власти. Можно вспомнить разве что Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина от 13 апреля 1991 г. «О необходимых мерах развития крупных библиотек» [1, c. 159]. Однако, по сути, и он явился набором популистских фраз и зримой помощи ведущим отечественным библиотекам не оказал.
В заключение следует признать выбранное время трагедийным как для всего
Советского Союза, так и для библиотечной сферы в частности. Разрушительные процессы в культуре, образовании, просвещении повлияли не только на жизнь современников «перестройки», но и на судьбу новых поколений граждан Российской Федерации конца XX–XXI вв. Из этого исторического опыта нам важно сделать верные выводы на будущее.