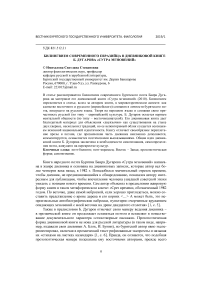Билингвизм современного евразийца в дневниковой книге Б. Дугарова "Сутра мгновений"
Автор: Имихелова Светлана Степановна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Бурятоведение
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается билингвизм современного бурятского поэта Баира Дугарова на материале его дневниковой книги «Сутра мгновений» (2010). Билингвизм определяется в статье, вслед за автором книги, в мировоззренческом аспекте: как единство восточного и русского (европейского) сознания в личности бурятского поэта, пишущего на русском языке. Творя на неродном языке и сознавая свою причастность русской (по типу - европейской) культуре, Б. Дугаров остается верным ментальной общности (по типу - восточноазиатской). Его дневниковая книга дает благодатный материал для объяснения «двуязычия» как существования на стыке двух (вернее, нескольких) традиций, но ее неповторимый облик создается осознанием исконной национальной идентичности. Книгу отличает своеобразное переплетение прозы и поэзии, где прозаическая часть дневника неизменно дополняется, комментируется, осмысляется поэтическими высказываниями. Общая идея дневниковой книги Б. Дугарова заключена в необходимости самопознания, самоопределения поэта, живущего на перекрестке культур.
Поэт-билингв, поэт-евразиец, восток - запад, прозопоэтическая форма, самопознание
Короткий адрес: https://sciup.org/148316595
IDR: 148316595 | УДК: 821.512.31
Текст научной статьи Билингвизм современного евразийца в дневниковой книге Б. Дугарова "Сутра мгновений"
Книга народного поэта Бурятии Баира Дугарова «Сутра мгновений» написана в жанре дневника и основана на дневниковых записях, которые автор вел более четверти века назад, в 1982 г. Понадобился значительный отрезок времени, чтобы дневник, не предназначавшийся к обнародованию, показался автору интересным для публикации, чтобы впечатления человека ушедшей советской эпохи увидеть с позиции нового времени. Сам автор объяснял в предисловии жанровую форму книги в таком метафорическом ключе: «Срез времени, обозначенный 1982 годом. По веточке, даже самой неброской, если хорошо приглядеться, можно составить представление о кроне дерева и его корнях <…> А может быть, это непроизвольные автобиографические наброски, пунктирно очерченные кружением опадающих мгновений с моей веточки на древе двадцатого столетия» [1, с. 5].
Также в предисловии Б. Дугаров отмечает свою манеру ведения дневника – в прозаической книге он продолжает оставаться поэтом и вставляет в повествование документального характера «стихотворные пассажи». Прозопоэтическая форма дневниковой книги не нова для русской литературы (в таком виде, например, издавали свои дневники А. Блок, И. Бунин), но бурятский автор явно экспериментировал, включая в прозаический текст рифмованные экспромты и называя их «стихами на листках календаря» [1, с. 6]. Правда, он сознается, что подобная прозопоэтическая манера подсказана ему восточными авторами, прежде всего безымянным хронистом историко-литературного памятника ХIII в. «Сокровенное сказание монголов».
Дневниковой книге автора присущ путевой характер, поскольку, будучи ученым (с 1980-х гг. и по сегодняшний день он работает как историк-монголовед в научном институте и много ездит по родной Бурятии и Монголии, в научные центры Москвы и Ленинграда), признается в собственной кочевнической страсти, в том, что записи создавались «с евразийским замахом», ведь «всадник должен оставаться всадником, даже если он сидит не на коне» [1, с. 13]. Записи о поездках, как и стихи о путешествиях по «степной Евразии», служили лабораторией будущих исследований по изучению монгольских текстов, часто написанных вертикальным старомонгольским письмом. Как поэт он восхищается их творческим духом. Объектом его внимания были не только знаменитое буддийское произведение «Дхаммапада» (около III в. до н.э.) и средневековый памятник 1240 г. «Сокровенное сказание монголов», но и тщательно прочитанное сочинение «Зерцало мудрости» (1915) бурятского ламы Ирдыни-Хайбзун Галшиева и, конечно же, «Намтар» (Жизнеописание) средневекового монгольского монаха-отшельника и поэта Миларайбы (1040–1123), над переводом которого трудился Дугаров в 1982 г. Оглядка на эти вершины живет на страницах книги, наполняется личным опытом, личным отношением к современности.
Книга «Сутра мгновений», как и вся лирическая поэзия Дугарова, бурятского поэта, пишущего на русском языке, проявила особенности авторского билингвизма. Сам поэт не раз признавался в своем билингвизме как синтезе восточного и русского (шире – европейского) мировосприятия: «…два языка, правда, в разной, но необходимой степени питают мою евразийскую музу: « Русский – он в моих стихах звучит, / А другой, родной, во мне грустит ». В силу автобиографических и других обстоятельств мое творчество сложилось именно на русском языке. Но я пишу и на бурятском, но больше для себя, в состоянии, когда душа просит этого. <…> Для евразийского поэта, каковым я себя считаю, важно чувствовать свои национальные корни, и это дается прежде всего через знание родного языка. Я слышу голоса своих предков, звуки священных молитв, обращенных к Небу и Земле, протяжные песни Великой степи и легенды страны Баргуджин-Тукум ∗ ...» [2, с. 182].
Билингвизм автора книги «Сутра мгновений» проявляется на протяжении всего повествования: это и большое количество сведений о значениях бурятских наименований, употребляемых им или его собеседниками, это переводы с бурятского и монгольского языков на русский художественных текстов, произведений различных фольклорных жанров, и наоборот – переводы с русского на бурятский. Интерес для исследователя билингвизма поэта могут представить его комические макаронические стихи, и вообще интерес к образцам макаронической поэзии, написанной на смешанном жаргоне, в том числе поэзии, в которой «обильно, порой нарочито используются бурятизмы в авторской речи» [1, с. 350].
∗ Баргуджин-Тукум – историческая область в районе озера Байкал, в которую в период Монгольской империи входили территории современной этнической Бурятии и отдельных прилегающих к ней частей соседних регионов.
Чтобы писать такие стихи, необходимо владеть как русским, так и бурятским языками.
Но билингвизм евразийского поэта необходимо рассматривать шире, в мировоззренческом аспекте, именно таким поэтом и заявляет о себе Б. Дугаров в дневниковой книге. Дело в том, что, творя на неродном языке (вернее, втором родном), сознавая свою причастность русской (по типу – европейской) культуре, он остается верным ментальной общности, определяемой культурой месторождения (по типу – восточноазиатской). Его «двуязычие» объясняется в книге как существование собственной национальной идентичности. на стыке двух (вернее, нескольких) традиций.
На преобладании национального дискурса в своей русскоязычной поэзии Дугаров постоянно настаивает, однако в жанре дневника нам видится наличие разных культурных кодов, диалог и полифония голосов. Поэт видит истоки полифонии «голосов» в восточноазиатской культуре, в эпохе Великой степи. В стихотворении «Знак полнолуния» (дневниковая запись от 30 июня 1982 г.) это проявляется в мечте шаньюя – гуннского императора о едином евразийском пространстве, которая сбудется в могучем громе чингисовой конницы: « Все это будет, яростно случится. / однажды встанет на дыбы степной простор. / И первая Евразия родится, связуя стременами Запад и Восток …» [1, с. 183]. Однако в поэтических сборниках можно увидеть преобладание поэтического значения евразийской идеи – это стремление соединить звук «струны волосяной» музыкального инструмента монголов – моринхура и звучание европейской скрипки. Поэт афористически определяет свое евразийство так: « Апполонова лира звучит моринхура струною » [3, с. 6].
Дневниковые записи Дугарова полны описаний встреч с разными людьми, перечислений будничных дел и забот автора, взаимоотношений личных, семейных, без которых дневник не может существовать. Автору удается сплавить, объединить единой канвой, единой сюжетной линией разные жанровые пласты: дневниковые записи, мемуары, эссе, фрагменты научной речи, автобиографию, лирические пассажи, бытовые зарисовки. Эту канву можно назвать санскритским словом «сутра», которое, согласно всем имеющимся словарям, означает не только изречение, лаконичное высказывание. Еще одно значение слова «сутра» в древнеиндийской литературе (буквально – «нить») – это свод отрывочных высказываний, объединенных какой-либо темой, о чем поэт говорит в предисловии. Такое значение автор также выводит из корневой основы русского слова суть. Именно из мгновений состоит жизнь человека, и их суть «соткана», запечатлена с помощью слов, высказываний в «круговороте бытия», осязаема «сквозь дымку вечности» [1, с. 8].
Дневник 1982 г. Дугаров писал для себя, 35-летнего человека, который оказался между двух профессиональных ипостасей – поэта и ученого, между двух языков – русского и бурятского. И эта двойственность накладывалась на личный кризис, который зафиксирован в дневнике. Внутренний разлад лирического героя книги, чувство тоски, «неотвратимой» и «необъяснимой», вписываются в контекст русской поэзии, устремленной от несовершенства земной жизни к жизни вечной, трансцендентной. Но не меньше это стремление свойственно поэзии
Востока. В дневнике внутренняя драма оказывается импульсом к поиску своего истинного «я», своего собственного жизненного пути.
На общую «нить» дневниковых записей книги нанизываются стихотворные тексты, которые можно назвать «метатекстами» – они нарушают однородность основного текста, но проясняют его «семантический узор» [4]. А. Вежбицкая называет их «метатекстовыми нитями». На наш взгляд, из них складываться канва евразийского мироощущения автора.
Евразийство Дугарова, конечно же, носит иной характер, чем русское евразийство в годы его возникновения. Творческое использование Дугаровым образцов восточного прозопоэтического письма наполняется личным опытом и личной памятью о прошлом, а также драмой современного русскоязычного поэта, которая обнаруживается и в отношении к родному языку и родной культуре, и в обращении к культуре русской (европейской).
В каждой записи, как и в каждом сопровождающем ее стихотворном тексте, проявляется то, чем «болен» в этот момент автор, а значит, и его лирический герой. Так, в записи от 29 сентября есть признание в личном интересе к творчеству бурятских поэтов – Дондока Улзытуева и Даши Дамбаева, которые рано ушли из жизни. В дневнике это объясняется драмой внутреннего разлада, которая не обошла самого летописца: «Разлад с действительностью – от высоты полета». Называя старших товарищей по поэтической стезе жаворонками бурятской поэзии, автор приводит поэтическое объяснение раннему их уходу:
И чтоб дыхание перевести, не хватает воздуха в груди.
Потому-то жаворонки в поднебесье в ранний час захлебываются песней.
И закону внутреннему внемля, к полдню камнем падают на землю [1, с. 319].
Речь идет о том историческом отрезке времени, замечательно выраженном в стихотворении Е. Евтушенко «Со мною вот что происходит…». Отражение личной боли и тоски от разлада с действительностью – в том числе своего собственного – присутствует в размышлениях не только о поэтах-соплеменниках. Например, в записи от 28 сентября, выделяя имена из старшего поколения русских поэтов, называет родственными по духу Давида Самойлова и Владимира Соколова: «…сходимся в чем-то сокровенном». Это «сокровенное» Дугаров обнаруживает в «родственном слове», которое сформулировано одним из названных поэтов так: «слово, в котором тайная беда» [1, с. 318–319].
Отпечаток внутренней драмы более явственно проявляется, когда автор делает акцент на евразийской проблематике. Об евразийстве как особой мете его личности в книге упоминается не раз: практически все отклики о собственной поэзии характеризуют ее как национальную несмотря на «русский» облик. Первым же заметил это обстоятельство в юношеских стихах Дугарова мэтр бурятской поэзии Дондок Улзытуев. В записи от 8 октября, работая над переводом книги стихотворений на бурятском языке, автор дневника вспоминает ушедшего из жизни классика, их первую встречу в Союзе бурятских писателей в 1965 г., когда тот откликнулся на его ранние опубликованные в местных газетах стихи: «Интересно, пишет по-русски, а чувствуется бурятское». Имеется и приписка:
«Заметил, как бы рассуждая вслух» [1, с. 329]. На следующий день, 9 октября, автор дневника принимается за работу над переводом лучшего, на его взгляд, позднего стихотворения Д. Улзытуева «Камни» и вспоминает о переводах его стихов Евгением Евтушенко, читает поэму Евтушенко «Непрядва».
Следующий день -10 октября описывается как продолжение разговора о диалоге двух культур, шире - темы Восток-Запад, в пространном размышлении о монголо-татарском иге. Рассуждение вызвано книгой В. Чивилихина «Память», навеянной вчерашним чтением поэмы Евтушенко. Несогласие с двумя текстами русских писателей выражена в формулировках: «евтушенковская руссоцентрич-ность», «тенденциозность Чивилихина», отсутствие у обоих «исторической убедительности». Фрагментарные, на первый взгляд, записи объединяют оба дня поэта общим (евразийским) пафосом: «Нельзя все-таки понятие родины превращать в политику от поэзии. У каждого народа есть свои куликовские битвы, и если поэты принялись бы искать в истории опорные точки для воспевания исключительности своего этноса, то поэзия перестала бы быть поэзией»; «Монголы больше, чем какой-либо другой народ выстрадали необходимость мира и дружбы. Особенно матери»; «300 лет ига больше принадлежат России, нежели Монголии. Для Монголии эти века так называемого господства как бы выпали из ее собственной истории, но история Евразии все-таки напоминает об этом»; «Для потомков тюрко-монголов: сегодняшних казахов, татар, башкиров, калмыков, бурят и др. - это часть их истории. Иго распалось - / эхо осталось » [1, с. 331].
Разумеется, акцентируется в этих записях идея общей истории народов, населяющих Советский Союз. Недаром после умозаключений автора, который являет собой одновременно поэта и историка, следует конечная запись прозаического текста: «Советский Союз почти повторяет границы монгольской империи. Тот же евразийский симбиоз, обратная волна эпохи Чингисхана, но под иным знаком» [1, с. 331]. Доказательством серьезности разговора служит следующий за прозаическим текстом поэтический цикл «Монолог бурмона» (так сокращенно от слова «бурят-монгольский» называет себя лирический герой Дугарова). Этот цикл - едва ли не самый большой стихотворный текст в книге по количеству частей и строф. По своей форме он переводит логику публицистической дискуссии в образный, метафоро-символический дискурс.
Поэтическая версия истории Евразии дана в цикле в виде пятичастного «сказанья о Великой степи» - это появление номадов чингисхановой конницы (« И в сердце Азии взошла / гроза тринадцатого века / и мир подлунный потрясла »), обращение к великому хану, не знающему, что после его смерти исчезнут лучшие генетические силы этноса («… и степь опустела, Великая степь. /О великий, если бы ты оглянулся / твой народ растерзали на части, / словно тарбагана, высунувшегося из норы, / тарбагана, которому снился сон, что он был великаном …»), признание в том, что Степь сумела возвысить дух предков до Вселенной, до вечности (« И песнь ее сказаньем сокровенным / сквозь времена во мне отозвалась ») [1, с. 332-333]. Заканчивается поэтический цикл чувством тоски и одиночества современного потомка былых номадов, ведь никто не слышит его песни, его молитв, его вопроса: « Кто подхватит упавшее Синее знамя / и поднимет его над простором земли? ». И отвечает на этот вопрос:
Мне осталось молчать и сродниться с проклятой тоскою, Улыбаться и петь с искаженным от боли лицом, и стрела, что летит сквозь века над землею, успокоится, видимо, в сердце моем [1, с. 333].
Таким образом, общая нить повествования не обрывается на последней фразе, а наоборот, продолжена стихотворным текстом, выражающим все ту же мысль, подкрепленную силой эмоционально-образного лирического высказывания. Ведь и мысль, и чувство связаны общей неудовлетворенностью тем, что в родной стороне позабыты «степные законы» и правят иные, что искусственно замолчаны на целые десятилетия национальные приоритеты и ценности, забвению преданы истории племен и родов, а национальные традиции, отразившиеся в старинных бурятских летописях – памятниках народной мудрости, уже не являются непреложным фактором существования нации и т. п. Еще не забыты, памятны обвинения в панмонголизме в адрес лучших представителей первой (советской) бурятской интеллигенции. А новое поколение соплеменников-бурят уже не знают своей родословной, традиций своих предков. Позднесоветская эпоха рождает горькие выстраданные мысли, которые лучше выразить в поэтических метафорах: «… я с веком петь не в силах в унисон ». Официальные, набившие оскомину лозунги интернационализма в «Монологе бурмона» отзываются в утверждении: « И чем больше твердят мне о дружбе и братстве, / тем сильнее во мне одиночество, чувство вины » [1, с. 331].
Немало горьких строк из дневника Дугарова 1982 г. ассоциативно напоминают известные слова Гейне о трещине мира, которая проходит через сердце поэта:
Когда бушует в мире дух нечистый и правит сценой истина лжецов, мне Бог дает простую роль статиста, хранящего молчание веков.
Но как сдержать себя и жить на свете, когда душа – она живая ведь – болит, когда зияющая трещина столетья прошла по сердцу и кровоточит [1, с. 175].
Но еще горше осознание личной вины и ответственности, сублимированных в чувстве тоски, которое и легло в основу дневника 1982 г.: « Жить в ладу с самим собой потруднее, чем с эпохой » [1, с. 40, 306]. И здесь бурятский поэт, думается, высказывается в евразийском ключе, потому что чувство это, несмотря на его горечь, дарит вдохновение, служит импульсом творчества, что присуще русским, шире – европейским поэтам. Да и не только поэтам. Вспомним признание Н. Бердяева: «Я стал философом, чтобы отрешиться от невыразимой тоски обыденной “жизни”. Философская мысль всегда освобождала меня от гнетущей тоски “жизни”, от ее уродства <…> Тоска исходит от жизни и устремлена к трансцендентному» [5, с. 49]. То есть тоска автора «Сутры мгновений» от забвения культуры Востока в жизни одного из советских этносов, становилась для него творческим чувством. И тогда некая линия-нить сшивает в единый узор ценности и Востока, и Запада, что отразилось в дискурсе и повествовательном, и в поэтически-образном.
Таким образом, поиск собственного «я», способность к самоанализу, к исповедальному высказыванию углубляется и развивается в книге «Сутра мгновений» благодаря усложнению прозаического слова с его эпической объективностью и наделению его лирической субъективностью. В прозопоэтическом дневнике объединение текстов разной родо-жанровой природы создает ситуацию культурного диалога.
Интересна реакция читателей в соцсетях на появление этой необычной, по их словам, книги. Приведу лишь одно определение-отзыв жанрового облика «Сутры», отслеженный в интернете. По мнению читателя-почитателя , книга выступает «в синтезе равнозначных компонентов, содержательных массивов, вместе образующих единое повествование: переживание истории семьи, воспоминания о прямых предках; история бурят-монголов, их быт, фольклор, предания, перенесенные в наши дни – и рядом великолепные стихи, “опоясывающие” все повествование» ∗∗ .
Связь прозы и поэзии проявляется в дневнике во многом от повествователь-ности, эпичности, идущих от сказаний (улигеров) бурятских улигершинов («Нить времен сказителями ткется»). Сказительская интонация построена в анафорическом приеме, как и бурятское стихосложение. Эпический сказитель, олицетворяющий в своей речи национальный дух, рифмует только начало строки. Современный поэт Б. Дугаров наряду с анафорой использует и конечную рифму как дань европейскому стиху (на этой двойной рифме построены стихотворения из цикла «Протяжные гимны»). Ю. Орлицкий отмечал к тому же в этом цикле виртуозное соединение двух абсолютно не соединимых техник: бурятской анафоры и античного гекзаметра [6, с. 15].
Рассмотрим этот прием евразийского характера в дневниковой книге Дуга-рова, творчески переработанный и переведенный в синтез текста и «метатекста». Во фрагменте из поэтического цикла «Размышления на берегу Кыренки» есть стихотворение в прозе, где поэт сталкивает народное празднество (реальное) и официальный праздник в Кремлевском зале съездов (воображаемый):
« С высокой трибуны Генсек объявляет о новой исторической общности людей, именуемой советским народом. Все это похоже на правду, но…
Скуластый историк с оглядкой на Кремль уверяет, что история его народа начинается с XVII века - с присоединения к России. Все это похоже на правду, но…
Сверкая медалями на груди, поэт воспевает родословную своего народа - с 17 года, с выстрела «Авроры». Все это похоже на правду, но… » [1, с. 244].
Вслед за сказителями здесь поэт использует анафору – единоначатие в начале каждой из трех строк и сталкивает ее с троекратным повтором в конце строк, играющим роль конечной рифмы. И в этом проявляется не только творческий подход поэта, но и его подлинно диалектический взгляд на мир, о чем восхищенно воскликнул один из критиков-рецензентов, анализируя анафорическую лирику поэта: «Возможен ли в наше время поэт, который так глубоко погружен в евразийское прошлое, центральноазиатскую топонимию, привязан к своему ро-
∗∗ URL:
ду, близко ощущает “зыбкие тени богов” и так величаво отстранен от суеты наших будней?» [7, с. 241].
Фрагмент построен как песнь сказителя, чья анафорическая речь начинается торжественно, а в финале аллюзия конечной рифмы вызывает иронию. Явление анафоры в анализируемой книге представлено автором как восточный, точнее, тюрко-монгольский стиховой феномен, но одновременное присутствие европейской конечной рифмы отвечает движению к синтезу-диалогу двух культур – Запада и Востока, Европы и Азии. В этом смысле книга бурятского поэта – удачнейшая в современной литературе попытка самобытного понимания этого синтеза, взаимодействия и взаимопроникновения разных культурных кодов.
В заключение отмечу, что лирический принцип, реализованный в «Сутре мгновений» в форме прозопоэтического дневника, соответствует билингвизму ее автора, идущему от общей евразийской проблематики книги. Дневниковая форма объединена с поэтическими «метатекстами» одной и той же функцией – эмоциональным, глубоко личным высказыванием лирического «я». Стихотворные вкрапления – это части общей нити (сутры), а разнонаправленные жанровые структуры скрепляя общую канву, помогают развернуть драму самопознания поэта-билингва, поэта-евразийца.
Список литературы Билингвизм современного евразийца в дневниковой книге Б. Дугарова "Сутра мгновений"
- Дугаров Б. С. Сутра мгновений. - Улан-Удэ: Изд-во "Республиканская типография", 2011. - 440 с.
- Дугаров Б. С. Путь к анафоре (из опыта евразийского билингва) // Русская литература в России и мире: материалы междунар. науч. конф. - Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2015. - С. 178-186.
- Дугаров Б. С. Азийский аллюр. - Улан-Удэ: Изд-во "Республиканская типография", 2013. - 208 с.
- Вежбицкая А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8: Лингвистика текста. - Москва: Прогресс, 1978. - С. 402-421.
- Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). - Москва: Международные отношения, 1990. - 336 с.
- Орлицкий Ю. Песни степного Гесиода // Дугаров Б. С. Степная лира. - Санкт-Петербург: Свое изд-во, 2015. - С. 5-17.
- Хузангай А. Бурятский бродяга дхармы // Дружба народов. - 2015. - № 3. -С. 231-241.