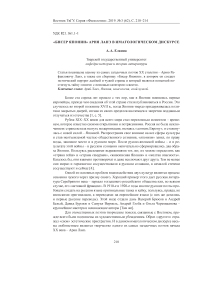"Бисер Японии" Ария Ланэ в имагологическом дискурсе
Автор: Елкина Анастасия Александровна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из самых загадочных поэтов XX столетия - Арию Рафаиловичу Ланэ, а также его сборнику «Бисер Японии», в котором он создает поэтический портрет далёкой и чужой страны и который является попыткой постигнуть тайну «иного» с помощью категории «своего».
Арий ланэ, япония, имагология, свой-чужой
Короткий адрес: https://sciup.org/146281492
IDR: 146281492 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи "Бисер Японии" Ария Ланэ в имагологическом дискурсе
Более ста сорока лет прошло с тех пор, как в Японии появились первые европейцы, прежде чем сведения об этой стране стали публиковаться в России. Это случилось во второй половине XVII в., когда Япония твердо придерживалась политики закрытых дверей, изгнав из своих пределов иноземцев и запретив подданным отлучаться из отечества [1, с. 5].
Рубеж XIX–XX веков для всего мира стал переломным моментом – временем, которое известно своими открытиями и потрясениями. Россия не была исключением: страна встала на путь модернизации, пытаясь «догнать Европу», и столкнулась с новой силой – Японией. Распространяя свое влияние на все сферы культуры и став неотъемлемой частью общественного сознания, «японизм» занял, по праву моды, законное место и в русском мире. После русско-японской войны – и в результате этой войны – в русском сознании окончательно сформировались два образа Японии. Пользуясь расхожими выражениями тех лет, их можно определить как «страна гейш» и «страна самураев», «живописная Япония» и «желтая опасность». Казалось бы, они взаимно противоречат и даже исключают друг друга. Тем не менее они мирно и гармонично сосуществовали в русском сознании, в немалой степени сосуществуют и сейчас [4].
Одной из основных проблем взаимодействия двух культур является процесс освоения чужого через призму своего. Хороший пример этого дает русская литература Серебряного века – зеркало тогдашнего российского общества или, во всяком случае, его «активной фракции». В 1910-е и 1920-е годы многие русские поэты пробовали создать на русском языке оригинальные танка и хайку, пользуясь, правда, не японскими оригиналами, а переводами на европейские языки (с них же делались и первые русские переводы). Этой моде отдали дань Валерий Брюсов и Андрей Белый, Давид Бурлюк и Самуил Вермель, Андрей Глоба и Ольга Черемшанова – крупнейшие мастера и начинающие авторы [Там же].
Для отечественных поэтов творческие поиски, связанные с Востоком, прежде всего были подчинены их художественным убеждениям. Образ «другого» отражал «свои» эстетические пристрастия. И в данном имагологическом дискурсе весьма любопытным является творчество одного из самых загадочных поэтов начала XX века – Ария Ланэ.
Арий Рафаилович Ланэ – русский поэт, о котором неизвестно почти ничего: остались три книги стихов, публикации в журналах, казанских поэтических сборниках 1920-х гг., редкие упоминания в газетах и краткая автобиография. Из нее можно узнать, что поэт родился в 1894 г. и учился в смоленской гимназии, Варшавском университете и Институте восточных языков. Согласно автобиографии, стихи Ланэ начал писать с шестнадцати лет, печатался в детских журналах и провинциальных газетах. Дальнейшая жизнь Ланэ представляет собой загадку. Как сказано в автобиографии, Ланэ «жил: в Польше, Сибири, Кавказе, Крыму, Корее, Японии, Китае, Филиппинах. Был: делопроизводителем, начальником отдела, товароведом, научным работником, корреспондентом газет, хроникером, агентом» [3, с. 94].
Точным подтверждением того, что он побывал в Японии, остается его странный сборник стихов «Бисер Японии», который известен только в переиздании, по сборнику «Красочные пятна» (1920 г.) и «Века в минутах» (1921).
Само существование сборника «Бисер Японии» не установлено. Поскольку Ланэ нигде больше его не упоминает, возможно, это мистификация. Во всяком случае, его единственное стихотворение с точным японским топонимом и датой свидетельствует, что в августе 1917 г. он находился в Токио («Хичан»). Что привело его на Дальний Восток, каким образом он добрался до Филиппин – неведомо. Весной 1920 г. Ланэ обнаруживается в Казани. Здесь начинается период бурной деятельности: совместно с В. Клюевой он публикует сборник «Красочные пятна», где помещает часть цикла «Бисер Японии» – едва ли не самое интересное из всего им созданного [Там же, с. 97]. Именно в нем Ланэ создает поэтический портрет далекой и чужой Японии. Одна из самых загадочных стран становится объектом художественной мысли поэта, диковинкой, которую Ланэ всячески трансформирует в своих стихах. Наряду с традиционными «жапонизмами» и обработками японских легенд и преданий в нем обращают на себя внимание урбанистические зарисовки и изображенные со знанием дела портовые кабачки, кабаре и проститутки. Колоритные визуальные, звуковые и даже тактильные образы создают отчетливую картину жизни и быта людей Страны восходящего солнца.
К примеру, в стихотворении «Уэно парк» из сборника «Века в минутах» дано изображение реального японского императорского парка в районе Уэно в городе Токио. Ланэ в следующих строках детально описал один из японских национальных праздников – ханами – любование цветущей сакурой: «И лепестки летят, целуя землю, и падают среди садов, / И покорившись красоте, я страстность шепотов напевно-нежно ощущаю…» [Там же, с. 48].
В стихотворении «Похороны» автор не только с точностью описывает японский похоронный обряд, проводящийся по буддистскому обычаю, но и передает отношение японцев к смерти и загробному миру. Поэт говорит о том, что смерть в понимании японца – вовсе не страшное явление, ведь «в загробной жизни так много сказок», а во время самой траурной процессии: «Никто не плачет. Идут покорно, / Считая радость красок…» [Там же, с. 49]. Ланэ настолько тонко чувствует другую культуру, что в своей лирике с невероятной точностью передает суть обрядовых действий японского народа.
В цикле «Бисер Японии» много стихов, посвященных молодым гейшам или их ученицам – майко. Это и одноименное стихотворение «Майко», и «Бьет, ударяет по струнам японка…», и другие. Тематика стихотворений довольно разнообразна: описания кабаков и гуляний, тяжелой доли молодых японок, проданных собственными отцами в рабство («Из песен “В гавани”»); религиозные мотивы – стихот- ворения «Утренняя молитва», «Похороны», «В священной роще могилы знатных предков…». Много стихотворений цикла посвящено несчастной любви молодых японок к иностранцам, в частности, к морякам, – одна из реалий начала XX века после открытия страной портов для иностранной торговли. У читателя сразу может возникнуть сюжетная параллель со знаменитой песней «Девушка из Нагасаки», написанной в 1922 году Верой Инбер: «Он юнга, его родина – Марсель, / Он обожает пьянку, шум и драки. / Он курит трубку, пьёт английский эль, / И любит девушку из Нагасаки» [2, с. 15].
У Веры Инбер Япония предстает одновременно романтической и опасной, и это сочетание сплавлено воедино в китчевом тексте. В китче красивость подменяет собой красоту, а настоящие чувства заменяют фальшивая сентиментальность и наигранная мелодраматичность. У Ланэ же подобные сюжеты несколько более ро-мантизированны. Стихотворение «В осиневших гóрах, в хижине японской девушка сидела в счастьи хризантем…» рассказывает одну из таких многочисленных историй: «Девушка страдала от любви сгоревшей, / И смотрела в море на изгибы волн, / И ждала наивно, в горести узревши / В красоте обмана уходящий челн» [3, с. 32].
Отдельно стоит акцентировать внимание на стихотворении «Тринадцать самураев» и поэме «В японском храме», которые можно назвать своеобразными революционными манифестами в отношении японского правительства, нового режима и позиции сторонников старой власти против открытия страны для иностранцев. В стихотворении «Тринадцать самураев» Ланэ отсылает читателей к событиям, происходившим незадолго до Реставрации Мэйдзи. Главными героями произведения являются тринадцать дай-самураев, но, скорее всего, речь здесь идет о полицейском самурайском отряде синсэнгуми, выступавшем на стороне правительства сёгуната и сражавшемся за возвращение старых порядков. Так пишет о них Ланэ: «Разбойники жизни. Творцы и безумцы красивой и / вольной свободы <…> / И к солнцу навстречу и спаяны сталью несутся мечтою / исканий, / И терпкая, горькая, глупая пошлостью, жизнь ненужных / страданий / Для них непонятна» [Там же, с. 42].
Во второй части поэмы «В японском храме» Ланэ описывает агрессию, которую проявляли британские подданные на японской земле по отношению к коренным жителям, рассказывает о насильственном навязывании западной культуры англичанами. Главный герой здесь – самурай, который верен старым порядкам, страдает от того, что происходит с его родиной, хочет изгнания чужаков и возвращения Японии к прежним традициям: «По дороге тянется / Длинный караван на тощих стариках. / Это в горы едут англичане, / На рабах культуру строят, издеваясь…» [Там же, с. 45].
Для героя родная страна здесь словно любимая, с которой он «лентой алого бессмертья опоясан» [Там же] и которую он хочет защитить от всех бед. Об этом и пишет Ланэ: «Злобно смотрит, пригибаясь, самурай, / Меч отточенный прижав к груди. / Шепчет: “Вечный Будда, покарай, / От врагов зловредных землю огради”» [Там же].
В отличие от «японесок» Брюсова, Бурлюка, Андрея Белого и других поэтов Серебряного века, которые представляли собой стилизацию классической японской поэзии (русские танка и хайку) или стихи о Японии, зачастую написанные под впечатлением от ее посещения, «бисерный» цикл Ланэ, первый в русской поэзии ХХ века опыт целостной реконструкции японской культуры, с одной стороны, близок к французскому «жапонизму», с другой – противоположен ему: художник изображал жизнь и быт другой страны так, как это видел он собственными глазами, и столкновение реального опыта с традицией изображения «иного» дает очень интересный результат.
В текстах Ланэ японское общество – абсолютно традиционно, но сам автор, как ни странно, выступает противником традиции. Контрасты, которыми пользуется поэт, порождены столкновением «абсолютного прошлого» и «революционного настоящего», что особенно ярко и проявляется в поздней поэме «В японском храме» (1920 г.). За счет этого получается некий абсурд. Реставрацию Мейдзи в лирике Ланэ можно назвать своеобразной метафорой Октябрьской революции 1917 года, которая, по мнению автора, была необходима нашей стране. О том, что автор был сторонником перемен и революции, говорят стихотворения и неяпонского цикла: «…Это атом от меня. Я не могу еще расправить / крыльев. В воздухе буря – когда она пронесется, / я полечу! / Я» [Там же, с. 8].
В отличие от других поэтов Серебряного века, которые составляли первые переводы, переложения и подражания японским танка, а также создавая их оригинальные образцы, Ланэ с помощью такого японского понятия, как «ути-сото» («свой-чужой»), своей поэзией переосмысляет сущность японской культуры. Он не старается сравнивать ее с культурой европейской, довольно детально описывает японскую жизнь, быт, традиции, обряды, а также дает четкую характеристику главным историческим событиям того времени. Зачатки имажинизма Ланэ можно скорее называть японским словом イメージー «имэдзи», которое несет в себе целых два значения: «изображение» и «имидж», – это представление о стране, которое сознательно конструируется, будь то на официальном или на неофициальном уровне: этакий «Нихондзин-но Росиакан» (дословно «русский взгляд на японцев») [4].
Но легитимация такого взгляда возможна только при дистанцировании от культурной традиции и исчезновении представления о «своем»; русские, переселяющиеся в Китай, Южную Америку или Францию, как, к примеру, Валерий Пере-лешин и Пол Марсель, создают такого рода тексты, но русская диаспора в Японии слишком мала, и развития эта имагологическая модель не получает – тексты Лане остаются разовым экспериментом, хотя и весьма провокативным.
Список литературы "Бисер Японии" Ария Ланэ в имагологическом дискурсе
- Иванова Г. Д. Русские в Японии XIX - начала XX в. Несколько портретов. М.: Наука, 1993. 170 с.
- Инбер В. М. Бренные слова: третья книга стихов. Одесса: 1 Гос. тип., 1922. 66 с.
- Ланэ А. Р. Бисер Японии: Собрание стихотворений. [Б. м.]: Salamandra P.V.V., 2017. 104 с.
- Молодяков В. Японский бум в России. От рассвета до заката [Электронный ресурс] // Корпоративная имиджелогия. Научно-практический журнал. URL: http:// ci-journal.ru/article/599/yaponskii-bum-v-rossii (дата обращения: 15.06.2019).