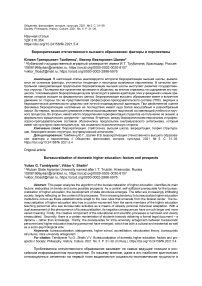Бюрократизация отечественного высшего образования: факторы и перспективы
Автор: Тамбиянц Ю.Г., Шалин В.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье анализируется алгоритм бюрократизации высшей школы, выявляются ее основные факторы, уточняются тенденции и некоторые возможные перспективы. В качестве центральной самодовлеющей предпосылки бюрократизации высшей школы выступает развитие государственных структур. Последние все органичнее проникают в общество, во многом отражаясь на содержании его процессов. Усиливающаяся бюрократизация вузов происходит в рамках адаптации этих учреждений к новым правилам, которые исходят из федерального центра. Бюрократизация высшего образования имеет и встречное движение со стороны тех же представителей профессорско-преподавательского состава (ППС), видящих в бюрократической деятельности средство уже личной индивидуальной адаптации. При двойственной оценке феномена бюрократизации негативные ее последствия имеют куда более масштабный и разнообразный смысл. Во-первых, происходит суживание и явное выхолащивание творческой составляющей учебного и научного процессов. Во-вторых, имеет место определенная переориентация студентов на получение не знаний, а формального юридического документа - диплома. В-третьих, между бюрократическим персоналом и профессорско-преподавательским составом обозначились предпосылки внутривузовского антагонизма, который имеет как культурно-экзистенциальную, так социально-психологическую стороны.
Бюрократизация, стейтогенез, высшая школа, аккредитация, теория структурации, бюрократические структуры, внутривузовский антагонизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149134958
IDR: 149134958 | УДК: 316.354 | DOI: 10.24158/fik.2021.5.4
Текст научной статьи Бюрократизация отечественного высшего образования: факторы и перспективы
Проблематика отечественного образования занимает не самые ведущие позиции в российском информационном пространстве. По нашему мнению, даже в его наиболее критических оппозиционных сегментах на первый план выдвигаются социально-экономические трудности и противоречия, на втором месте поставлены внутриполитические проблемы, связанные в основном с либерализацией и демократизацией, на третьем - в целом ухудшающаяся геополитическая ситуация, а далее примерно в сопоставимых масштабах затрагиваются проблемы образования, здравоохранения, природных ресурсов и т. д. Тем не менее никак нельзя считать, что тема образования целиком забыта. Несколько лет назад в медиапространстве обсуждался документальный фильм К. Семина «Последний звонок», посвященный реформированию средней школы. Нельзя не отметить работы О. Четвериковой, затрагивающие проблематику адаптации российского национального образования под глобальные правила, а в медиасфере время от времени появляются видеоролики данного автора. Наконец, немало интересных работ написано учеными Т. Хагуровым, А. Остапенко, А. Абрамовским [1].
В данной статье мы намерены обратиться к проблеме бюрократизации отечественного высшего образования. Авторы фильма «Последний звонок» в своей критике образовательных реформ акцентируют внимание на стратификационных и социал-дарвинистских подходах в образовании. Подчеркивается, что в рамках образования учителей и учеников вынуждают ориентироваться прежде всего на рынок, который будет отбирать «породистых скакунов» и «лошадок для колхозного стойла». Как уже упоминалось, содержание данного фильма строится в основном вокруг ситуации со средней школой. Но вот процессы, происходящие в высшей школе, имеют, вероятно, несколько иную логику, хотя вовсе не исключено, что и те и другие исходят из одной и той же проектной модели и призваны привести к аналоговым результатам.
Цель настоящей статьи - проанализировать алгоритм бюрократизации высшей школы, попытаться выявить ее основные факторы, уточнить тенденции и определиться в возможных перспективах. Для этого мы намерены, во-первых, определить круг доминирующих факторов, приводящих к бюрократизации высшего образования; во-вторых, рассмотреть социокультурные аспекты бюрократизации, что поможет уточнить сущностный смысл этого явления и, наконец, наметить возможные последствия дальнейшей его динамики применительно к сфере высшего образования.
Итак, каковы же предпосылки и факторы усиливающейся бюрократизации высшей школы? Если рассматривать не такое уж далекое советское время, то бюрократическая составляющая тогда тоже наличествовала и в солидных масштабах. Однако в те времена она вовсе не перекрывала значение главных «производительных» сфер институтов и университетов, собственно выражающих их миссию. Учебный и научный процессы шли своим чередом, а формализм и отчетность отнимали не более 3–7 % времени. Хотя, справедливости ради, следует признать, что и тогда многим преподавателям и научным сотрудникам это казалось чрезмерным.
Общий методологический ракурс нашего исследования задает позиция основателя социологии Э. Дюркгейма, который считал, что глубоко и всесторонне объяснить происходящие в образовании процессы можно только через рассмотрение основных общественных трендов в целом [2]. Ряд современных авторов (Т. Парсонс, М. Горшков, Г. Ключарев и др.), развивающих этот подход, констатируют диалектическую взаимосвязь образовательных институтов и социальной действительности. Как пишут М. Горшков и Г. Ключарев, «образование не только воздействует на общество, но и испытывает на себе влияние практически всех происходящих в нем изменений» (выделено М. Горшковым, Г. Ключаревым) [3]. Более детально подходил к образованию К. Маннгейм, жестко увязывая образовательный процесс с социологической стороной поведения людей [4]. Таким образом, в рамках данного представления структуры образования -один из ведущих агентов социализации. Эта линия прослеживается у современного отечественного исследователя Д. Константиновского, который утверждает, что образовательная система является важнейшим внешним регулятором структурирования образовательных и профессиональных траекторий молодежи, обеспечивая ему трансляцию знаний и профессиональных навыков, подготовку к социальной жизни, профессиональной деятельности, инновационной активности, а также ресурсы профессионального и карьерного роста [5].
Исходя из подобного видения образовательных институтов, для более или менее широкого анализа их динамики следует взять за основу как макро-, так и микросоциологический подходы. То есть (применительно к заявленной теме исследования) в качестве предпосылок бюрократизации образования выступают как факторы уровня национальной политики, так и более «приземленные» вещи, в том числе затрагивающие и некоторые психологические аспекты человеческой сущности. В ходе рассмотрения всего этого мы (в определенной мере) опираемся на социальнофилософский подход Леонида Гринина, а также руководствуемся теорией структурации Энтони Гидденса, вполне подходящей уже для понимания процессов, затрагивающих индивидуальные предпочтения тактического и стратегического плана.
Итак, с точки зрения Л. Гринина, процессы политогенеза фактически повсеместно приобретают характер стейтогенеза, т. е. развития государственных институтов [6]. Надо отметить, что управленческая (бюрократическая) сфера, будучи отделенной от политического источника принятия решений, выступает неотъемлемым атрибутом государства. При этом, если политика зачастую предполагает иррациональность и волюнтаризм, то действиям бюрократической администрации приписываются четко определенные рамки, которые регулируются жесткими нормативами и предписаниями. Показательно, что уже в эпоху зарождения государства отделение управленческих функций и их профессионализация стали насущной необходимостью, а там, где настоящее условие не выполнялось, политическое развитие социумов заходило в тупик.
Л Гринин видит три стадии стейтогенеза, отличающиеся прежде всего критерием соответствия структурных характеристик государства и остального общества. Так, ранее государство отличается слабой взаимной подгонкой государственных и общественных институтов, что предопределяет в большинстве случаев то обстоятельство, что и государство, и общество эволюционируют в значительной степени каждое по-своему. Неслучайно Л. Гринин характеризует ранее государство как «неполное», «недостроенное» [7]. Во многом это обусловлено слабым развитием государственного управленческого аппарата, хотя в отдельных случаях имел место чрезмерный рост государственной бюрократии (III Династия Ура), что откровенно тормозило социальные процессы, так как общество было мало готово к такой степени регламентации. Стадия развитого государства предполагает уже естественную форму макросоциальной организации, в рамках которой государство и общество более или менее друг к другу притерлись. Государственный аппарат является вполне централизованной бюрократической системой, в распоряжении которой имеются широкие возможности контролировать как повсюду, так и на местах общественные процессы. При этом административная система разрастается по мере развития государства в целом, на что работает целый ряд факторов, на которых мы здесь останавливаться не будем. Наконец, наличествующая в настоящее время стадия зрелого государства представляет уже органическую форму политической организации, «вне которой общество (и население) быть не может в принципе» [8]. В этом последнем случае государство и общество следует рассматривать в рамках единого целого, ввиду чего политический радикализм, нацеленный на изменение системных принципов и при этом пренебрегающий учетом «онтологических основ государственности и верховной власти» [9], неизменно приведет к негативной деструкции (например, 1990- е гг. в постсоветской России).
Бюрократия как социально-философский феномен вовсе не так однозначна, как сейчас представляется в политико-идеологических раскладах. Известная концепция М. Вебера носит идеально-типический смысл во многом потому, что в современной М. Веберу Германской империи (так называемом Втором рейхе) административная система была наиболее приближена к идеальному типу, представляя собой четко работающий механизм, отражающий тенденции масштабной рационализации. Недооценка М. Вебером дисфункциональной стороны бюрократии возможно и имела место, тем не менее он не отрицал ее дегуманизирующего смысла, который впоследствии мог сыграть (и часто играл) отнюдь не на пользу национальному целому. Однако, формируя рациональные институты, бюрократия не способна предвидеть возможных деструктивных последствий собственных действий. Диалектический подход к бюрократии содержится в следующем тезисе современного российского государственника и правоведа И. Исаева. Он пишет: «…для бюрократии характерным является не только ее численное и количественное разрастание как спонтанный и непрогнозируемый процесс, но также и потеря на определенном этапе ее развития способности к эффективному самоконтролю и рациональному планированию» [10, с. 81].
Что касается отечественной ситуации, то нам следует принять во внимание, что под влиянием ряда обстоятельств (оставленных за скобками) бюрократический аппарат уже несколько веков выступает становым хребтом отечественной государственности, или, в трактовке В. Спиридоновой, российская бюрократия есть «специфическая матрица российской власти» [11]. Исходя из тезиса Л. Гринина, что современное государство представляет собой органическое целое с остальным обществом, становится вполне понятным факт неизбежного попадания образовательных организаций под контроль и влияние разрастающихся административных структур различного уровня, что накладывает на институты образования очень заметный отпечаток, во многом предопределяя характер внутренних формальных и неформальных процессов. Следствием такого воздействия становится бюрократизация уже внутривузовской жизни, в значительной степени затрагивающая собственно учебную и научную составляющие.
Неотвратимый характер бюрократизации высших учебных заведений просматривается в рамках одного только феномена аккредитации, который является классическим продуктом функционирования административно-правовой системы в современных условиях. Государственная аккредитация проводится в соответствии со ст. 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Положением о государственной аккредитации образовательной деятельности», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039.
Показательно, что получение государственной аккредитации для ведения организацией образовательной деятельности является делом добровольным. Чтобы вести собственно образовательную работу, вполне достаточно обычной лицензии. Тем не менее наличие государственной аккредитации предоставляет соответствующие льготы как самой образовательной организации, так и проходящим в ней обучение.
Во-первых, наличие Свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности подтверждает статус самой организации, осуществляющей такую деятельность, и то, что образовательные программы, которые в ней реализуются, соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, т. е. подтверждаются уровень и качество реализации образовательных программ.
Во-вторых, наличие аккредитации дает возможность участвовать в открытом публичном конкурсе по распределению контрольных цифр приема, позволяет прикреплять лиц для сдачи кандидатских экзаменов и выдавать по результатам обучения документы государственного образца.
В-третьих, обучающиеся при поступлении в организацию, имеющую аккредитацию, получают отсрочку от призыва в армию, имеют возможность использовать материнский капитал при оплате контрактного обучения, брать образовательный кредит и т. д. [12].
Подобный перечень касается только формальных вещей, которые при этом обрастают рядом неформальных моментов. Однако, если учитывать только первую составляющую, то отказ от аккредитации, очевидно, резко снижает рыночные позиции образовательной организации. Если иметь в виду вузы, то их экономическое положение определяется количественным аспектом поступающих, который будет в упомянутом случае сокращен в разы. Тем самым, формально разрешая вузу не проходить аккредитацию, государственный аппарат, по нашему мнению, всего лишь пытается сохранить своего рода либеральную мину при деспотической игре. Здесь уместна аналогия с эпизодом из исторического романа Микки Валтари «Турмс Бессмертный», когда на пиратском корабле древних греков капитан говорил: «…мы одна большая семья, где каждый имеет право голоса». Однажды некоторые члены команды решили высказаться за прекращение похода и возвращение домой, так как добычи взяли много и пора остановиться. На это капитан заявил, что их долю добычи он им, безусловно, выделит, но судна (из числа захваченных) не даст. «Такой корабль стоит гораздо больше, чем вы заслужили. Так что возьмите ваше золото, повесьте его на шею и добирайтесь до Сицилии вплавь… Вода в море теплая, а по звездам вы легко найдете дорогу». Естественно, что после такого заявления желание «отделяться от коллектива» пропало [13]. Таким образом, государственная аккредитация фактически для любого серьезного вуза выступает самодовлеющим обстоятельством, которого не избежать.
Имеет смысл затронуть временные параметры – государственная аккредитация проходит один раз в пять лет. В процедуре государственной аккредитации программ подготовки научно-педагогических кадров выделяются шесть основных этапов, но главным для образовательного учреждения является первый этап, когда им проводится внутреннее обследование необходимых документов для прохождения процедуры государственной аккредитации, другими словами – их подготовка. Выделять место для отнюдь не короткого перечня этих необходимых документов здесь нет смысла: его вполне можно найти в соответствующей методической литературе [14]. Здесь следует отметить, что для успешной подготовки этих документов вузы вынуждены формировать определенные внутренние структуры, нацеленные исключительно на эту задачу, что обычно начинает происходить примерно за два года до подачи заявки на прохождение аккредитации. То есть вуз приблизительно 40–50 % времени живет в условиях «подготовки», которая по мере приближения срока аккредитации приобретает все более интенсивно-лихорадочный смысл.
И здесь целесообразно посмотреть на процессы внутренней бюрократизации в более широком методологическом ключе. Для этого нам пригодится предложенная современным классиком социологии Э. Гидденсом теория структурации. Последняя предполагает «двойную включенность» отдельных индивидов и общественных структур в рамках социальных процессов. С одной стороны, институты создаются действиями индивидов, однако, с другой стороны, эти же институты оказывают обратное воздействие на людей, создавших их. Тем самым «структуральные свойства социальной системы выступают и как средства производства социальной жизни в качестве продолжающейся деятельности, и одновременно как результаты, производимые этой деятельностью» [15, с. 70]. Отсюда бюрократизация выступает отнюдь не только результатом внешнего навязывания, но встречает значительный внутренний отклик. При этом субъектами данного встречного движения являются не только работники бюрократических структур, к которым можно отнести те внутривузовские подразделения, которые функционально не связаны с учебной и научной деятельностью (бухгалтерия, отдел закупок, хозчасть и т. п.), но и большое количество сотрудников из профессорско-преподавательского состава. Немало случаев, когда имеющие педагогический опыт и ученую степень преподаватели охотно переключаются на бюрократическую работу, либо временно приостанавливая деятельность на педагогическом и научном поприще (скажем, участие в так называемой «рабочей группе» на период подготовки к аккредитации), либо полностью переходя на должности в бюрократических структурных подразделениях. Это делается как исходя из экономической мотивации («здесь больше зарплата, а преподавание кормит мало»), так и под влиянием карьерных соображений – вновь образующиеся административные структуры представляют собой дополнительный социальный лифт.
Таким образом, характеризуя предпосылки и факторы бюрократизации высшей школы, следует отметить, что в плане центральной самодовлеющей предпосылки выступает развитие государственных структур, которые, с точки зрения методологии Л. Гринина, все органичнее проникают в общество, во многом предопределяя содержание процессов последнего. В то же время (на языке парсоновской терминологии) усиливающаяся бюрократизация вузов происходит в рамках адаптации этих учреждений к новым правилам, которые исходят из федерального центра. Хотя, если рассуждать шире, возможно, что главный источник следует искать на мировом уровне среди глобальных субъектов. Например, можно вести речь о требованиях Болонского процесса, куда Россия с 2003 г. пытается интегрироваться. Надо заметить, что понятие «образовательное пространство» мы не найдем в тексте самой Болонской декларации, а также в остальных документах Болонского процесса (Пражское, Берлинское и Бергенское коммюнике).
Следует сказать, что указанные тексты содержат только отдельные предложения по разработке образовательных стандартов и документов об образовании и самые общие рассуждения о необходимости организации системы контроля за обеспечением выполнения требований стандартов. Видимо, это побудило некоторых исследователей констатировать, что упомянутые документы предполагают солидное пространство для маневра (А. Фурсов). В Болонской декларации вообще не рассматриваются вопросы идентификации предметных областей (специальностей) и учебных дисциплин, проблемы, связанные с оценкой результатов обучения. Но вместе с тем системные аккредитационные показатели имеют место как в Европе, так и в англоязычных странах, причем аккредитация в них проводится на институциональном уровне, к чему стремятся и российские структуры образовательного управления. В этом процессе мы встречаемся как с простой имитацией, так и инициативами внутреннего характера.
Необходимо отметить, что бюрократизация имеет и встречное движение со стороны представителей ППС, которые видят в бюрократической деятельности средство уже личной индивидуальной адаптации.
Для более глубокого понимания последствий бюрократизации применительно к учреждениям высшей школы уместно остановиться на социокультурной стороне данного явления. Поскольку проблемы, возникающие при этом, имеют прежде всего именно социокультурный и даже социально-психологический смысл.
Априори институты бюрократии нацеливаются на четкое выделение конкретных функций, что помогает их более эффективной реализации. Напомним, что сущность бюрократизации заключается в минимизации иррациональных влияний и максимальном расширении рационализации. Характерным атрибутом бюрократической системы выступает подчинение как структурированное отношение, подкрепленное правовой регламентацией, «требуется и существует прежде всего как самоцель, когда учитывается не только более высокая компетенция и, следовательно, авторитет вышестоящего чиновника, но прежде всего его формальный статус» [16, с. 76]. Закономерно, что погружение в деятельность по осуществлению административных функций содействует формированию определенной идеологии. Известный ученый К. Маннгейм в свое время (1920-е гг.) даже определял бюрократический консерватизм в качестве одной из влиятельных мировоззренческих систем, для которой в то же время характерна жесткая зашоренность. «Чиновник отождествляет позитивный порядок, предписанный конкретным законом, с порядком как таковым и не понимает того, что любой рационализированный порядок есть не что иное, как особый вид порядка, компромисс между метарациональными борющимися в данном социальном пространстве силами» [17].
Тем не менее становится очевидным, что погоня за тотальной рационализацией затем начинает играть обратную роль, фактически превращаясь в антитезис. Этому имеется немало примеров, одним из самых показательных выступают бюрократические процессы. В ходе последних институты бюрократии все больше отрываются от осознания реальной действительности, что вскрывается в работах ряда исследователей бюрократического феномена К. Касториадиса, М. Ориу, М. Крозье и др.
С точки зрения К. Касториадиса, вселенная бюрократии от начала и до конца пропитана воображаемым. В ее рамках вырабатываются мало адекватные окружающей реальности символы, поскольку реальность интерпретируется бюрократией лишь в той мере, в какой может ре- гистрироваться и рационально регламентироваться. Здесь происходит коррекция частичных связей, но при этом игнорируются вопросы оснований целостности. Все многообразие мира бюрократическое мышление редуцирует к системе формальных правил, причем «фантазм организации как хорошо смазанной машины» вытесняется фантазмом самоорганизующейся и саморас-ширяющейся машины [18].
В ходе вполне закономерной тяги бюрократии к устоявшемуся (неслучайно К. Маннгейм однозначно определяет бюрократическое мышление как консервативное) ей становится присуще преувеличенное внимание к ритуалам и процедурам. Последние склонны консервировать все многообразные действия социальной организации, приводя к структурной кристаллизации, ориентированной на функциональную рутину – монотонное выполнение одних и тех же задач. Тем самым формируется своего рода бюрократическая традиция, приобретающая устойчивость, но за счет утраты рациональности. Как отмечает И. Исаев, имманентно присущая бюрократии тенденция к наращиванию своих структур, которые требуют соответствующего увеличения числа функций безо всякой оглядки на реальную целесообразность, противоречит стремлению к экономии энергии и отнюдь не свидетельствует о возрастании эффективности бюрократической структуры [19].
Трудно не предположить, что характер «бюрократической вселенной» (по выражению К. Касториадиса) антагонистичен этосу высшей школы, сущность которого выразил современный исследователь Г. Ханин. Им констатируется прежде всего дух интеллигентности, моральных приоритетов в отношениях преподавателей и студентов, где отсутствуют любые намеки о коррупционной составляющей. Научная жизнь в свою очередь характеризуется регулярным появлением оригинальных «и уж, конечно, в высшей степени добросовестных работ» [20]. Подобный этос отчетливо проявлялся в традиции отечественной высшей школы императорского и советского периодов, но в постсоветскую эпоху стал переживать не лучшие времена. Настало время порассуждать о реальных последствиях усиливающейся бюрократизации учреждений высшего образования.
Конечно же, оценка феномена бюрократизации даже в условиях организаций высшей школы имеет две стороны. В конструктивном плане, наверное, надо отметить выработку своего рода бюрократической культуры, которая приучает к определенной дисциплине и аккуратности. С другой стороны, соответствие вузовских учебных программ ФГОСам (что, кстати, заявляется в качестве главной цели аккредитации) могло бы иметь конструктивное значение, если рассматривать образование с точки зрения целостного идеологического воспитания. Другое дело, что те политические силы, которые стоят за разработкой государственных стандартов, вызывают определенные сомнения именно в плане их заинтересованности в выработке мировоззренческой системы, ориентированной на национальные интересы и социальное большинство.
Что касается негативных последствий бюрократизации, то, на наш взгляд, они имеют куда более масштабный и разнообразный смысл. Здесь мы затрагиваем только общие результаты, присущие всем образовательным учреждениям (так или иначе тенденций бюрократизации вряд ли удается избежать кому-либо из них) и касающиеся главным образом их внутренней структурной проблематики. Итак, представляется целесообразным обратить внимание на следующее.
Во-первых, происходит суживание и явное выхолащивание творческой составляющей учебного и научного процессов. Смещение функциональных акцентов проиллюстрировал декан одного из ведущих вузов Краснодарского края, заявив, что прохождение аккредитации – есть «честь вуза». Бюрократическая работа отнимает все больше времени даже у тех научных и преподавательских кадров, которые формально лишь косвенно участвуют в подготовке документов для той же аккредитации и других видов отчетности. С одной стороны, упор на формализм снижает качественную сторону занятий, которая к тому же поддается реальному контролю со стороны тех же проверяющих экспертов отнюдь не в первую очередь. С психологической точки зрения навязываемая профессорско-преподавательскому составу ответственность за формальную отчетность вытесняет профессиональную ответственность перед обучающимися, иначе говоря – «преподавательский долг». Погруженным в формирование многочисленных рабочих программ, кадровых справок, написание отчетов доцентам, профессорам или даже ассистентам все труднее найти время для расширения и обновления своих знаний. Однако следует упомянуть и то, что для современных студентов со средним уровнем знаний, сформированным ЕГЭ, обычно вполне достаточно и минимальных знаний преподавателя.
С другой стороны, не может не страдать научная сторона в погонях за показателями, которые требуется отразить в аккредитационных документах, следуя общему принципу «эффективности», навязанному несколько лет тому назад. Вследствие этого научные работы все шире начинают приобретать повторяющийся характер: например, одна и та же статья подается для печати в несколько изданий (только с новым названием и несколько измененным текстом) для прохождения системы антиплагиата.
Во-вторых, происходит определенная переориентация студентов. Нельзя не признать, что на это работают, помимо навязываемой бюрократической волокиты, еще и национальные ментальные особенности, а также факт малой увязки отечественного образования с отечественной же практикой. Как бы то ни было, но мотивация любого студента всегда имела двойственный смысл - получение диплома (формально-юридическая сторона) и получение знаний (качественная содержательная сторона). Естественно, что оба мотива выступают в разных соотношениях применительно к личности конкретного обучающегося. Как можно предположить, сугубо рыночный подход к образованию возможно бы смещал акценты в пользу второго - необходимость стать квалифицированным профессионалом, чтобы уверенно себя чувствовать на рынке труда. Но в современных условиях, когда профессорско-преподавательский состав погружен в бюрократическую деятельность за счет сокращения времени собственно преподавательской работы, очевидна тенденция усиления первого мотива, тогда как второй (вынужденно или нет) отступает на второстепенные позиции.
Наконец, в-третьих, следствием бюрократизации становятся наметившиеся предпосылки внутривузовского антагонизма между бюрократическим персоналом и профессорско-преподавательским составом. Подобное обстоятельство имеет многозначный смысл. С одной стороны, это работает против корпоративизма, который представляет сейчас модный тренд с точки зрения управления организацией. С другой стороны, внутренний раскол может быть по-своему «на руку» руководству, поскольку с момента отмены тарифной сетки и расширения возможностей руководителей бюджетных организаций варьировать с заработной платой между управляющей системой и большинством персонала наметилось усиление социально-экономических противоречий. Что касается непосредственно противоречий между бюрократическими и профессорско-преподавательскими структурами, то они имеют несколько аспектов, которые мы представляем ниже.
-
А) Культурно-экзистенциальный аспект, где речь следует вести о неприятии бюрократической работы, в которую неизменно вовлекаются представители творческих профессий - доценты, профессора. В сознании многих из них волокита с подготовкой документов и отчетности закономерно вызывает отторжение и протест. Погружение в бюрократическую деятельность представители ППС интерпретируют в основном как бессмысленную работу, которая не имеет ровным счетом никакого отношения к собственно учебному процессу и трансляции знаний. Отсюда логично возникают сомнения культурного и даже социально-политического плана - «кому это все выгодно?». Кроме того, некоторые ученые-преподаватели признаются, что ощущают свой полный дилетантизм при близком знакомстве с документооборотом, что естественным образом подрывает их уверенность в собственном профессионализме.
Между тем для эффективного выполнения бюрократических функций необходима совокупность личностных качеств, наблюдаемых не у каждого. С одной стороны, для сферы делопроизводства необходимы внимательность, доходящая до въедливости, последовательность, усидчивость и способность к долгой концентрации. Возможно, здесь нельзя исключать и гендерный критерий: легче способны погружаться в бюрократическую деятельность женщины. С другой стороны, требуется определенный внутренний склад исполнителя, предполагающий установку: начальник всегда прав, следовательно, указания не обсуждаются, а выполняются.
Б) Социально-психологический аспект , который имеет в некотором роде и поколенческую сторону. Дело в том, что, как упоминалось выше, расширение бюрократических должностей представляет собой социальный лифт, привлекающий более молодых представителей ППС, которые в культурно-психологическом плане в меньшей степени испытывают влияние традиций этоса высшей школы и, соответственно, более готовы к реализации карьерных амбиций в бюрократической сфере. В современных условиях эти зачастую относительно недавно «оперившиеся» ученые повсеместно получают командные высоты по отношению к маститым докторам наук, что не может не вызывать негативной реакции у последних.
Несомненно, что бюрократическая система при сокращении отдельных структурных элементов порождает новые. Думается, что подобное произойдет и при принятии проекта документа «Ключевые направления развития российского образования для достижения Целей и задач устойчивого развития в системе образования» до 2035 г. (пока он не касается высшей школы). Терминология данной программы выстроена в экономической парадигме. А это, в свою очередь, не может не затрагивать все структурные элементы образования, в том числе и высшего.
Нельзя не отметить, что в условиях расширяющегося информационного типа социальных отношений посредством использования контекстов и подтекстов происходит создание навязчивых образов и манипулирование общественным сознанием. Причем это искусство достигло технологического уровня, позволяющего формировать «виртуальную реальность» в голове «массового человека». В такой «реальности» правдой является уже не само происходящее, а то, что о нем пишут, говорят и показывают средства массовой информации.
Более того, мы полностью легли под «обаяние» Запада: неважно, что и как ты исследуешь, важен индекс Хирша, публикации в зарубежных изданиях. Вузовская наука коррелируется с хоздоговорной деятельностью. Причем за все надо платить. Современная культура науки, образования и капиталистическая экономика идеально подходят друг к другу, потому что заняты деланием денег. В этом подходе иллюзия правды оказывается солидней реальной правды. Превращение науки в непосредственную производительную силу происходило и продолжает происходить под воздействием радикальных изменений в самой концепции знания.
Между тем нельзя не отметить, что в аспекте «должного» нравственная составляющая по идее необходима в социальных институтах образования. С введением рыночных отношений в эту сферу акцентация внимания на так называемую компетентностную доминанту и игнорирование воспитательной парадигмы привели к определенной замене потребления «бездуховных» и «бескультурных» «знаниевых» продуктов. Введение ЕГЭ превратило учебный процесс в общеобразовательной школе в систему натаскивания, пародию, а образовательную деятельность подменили репетиторской. Образовательные услуги предоставили право значительной части покупать их, исключив «знаниевую» мотивацию. Мораль потихоньку умирает, а эгоцентризм – панацея этого бытия. Уже на подсознании большинства сформировалась идеология денег. Огромная бюрократическая машина образовательной сферы фактически движется по дороге, обозначенной Ротшильдом: «Дайте мне контроль над денежной эмиссией страны, и мне будет все равно, кто правит в этом государстве, кто и какие законы принимает».
Следует помнить, ни экономика, ни финансы не создают нацию. В «Философии истории» Г. Гегеля четко прослеживается мысль: целостность нации, ее экономическая, финансовая, политическая составляющая стоит на трех опорах, которые, как известно, задают устойчивость – религия, искусство и философия. В то же время, исходя из предложенного тем же Г. Гегелем диалектического подхода, бюрократизация на современном этапе превращается в один из главных антитезисов общественного развития, особенно больно ударяя по высшей школе. Дело в том, что выражающие сущность бюрократических структур тренды рационализма, следования установленным предписаниям (определенная доля которых, безусловно, необходима) в настоящий момент развились до степени обесценивания, а порой и сведения на нет творческого элемента, присущего учебному, а тем более научному процессам.
Перечисленные негативные следствия бюрократизации касаются всех современных отечественных вузов, ориентированных на массовый выпуск. Однако следует отметить, что данный перечень несомненно дополняется специфической проблематикой, уже касающейся отдельного конкретного образовательного учреждения. Кроме того, рамки статьи не позволили углубленно проанализировать способы адаптации профессорско-преподавательского состава к процессам бюрократизации, которая имеет различные и иногда весьма причудливые формы. Но, как представляется, перечисленных пунктов вполне достаточно, чтобы ставить вопрос о необходимости принятия мер, которые могли бы как-то воспрепятствовать обозначенным тенденциям.
Список литературы Бюрократизация отечественного высшего образования: факторы и перспективы
- Хагуров Т.А. Образование между служением и услугой // Высшее образование в России. 2011. № 4. С. 47-57
- Остапенко А.А., Хагуров Т.А. Человек исчезающий. Исторические предпосылки и суть антропологического кризиса современного образования. Краснодар, 2012. 196 с.
- Абрамовский А.Л. Роль дистанционного обучения на современном этапе глобализации российского высшего образования // Теория и практика общественного развития. 2013. № 10. С. 133-135.
- Дюркгейм Э. Педагогика и социология // Дюркгейм Э. Социология. М., 1995. С. 261.
- Горшков М.К., Ключарев Г.А. Непрерывное образование в контексте модернизации. М., 2011. С. 7.
- Маннгейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 467.
- Новые смыслы в образовательных стратегиях молодежи : 50 лет исследования // Д.Л. Константиновский, М.А. Абрамова, Е.Д. Вознесенская [и др.]. М., 2015. С. 18.
- Гринин Л.Е. Государство и исторический процесс : Эпоха формирования государства. М. 2011. 368 с.
- Гринин Л.Е. О стадиях эволюции государства. Проблемы теории // История и современность. № 1. 2006. С. 3-45.
- Там же. С. 26.
- Шевченко В.Н. Российское государство и российская бюрократия : ретроспектива и перспектива / Бюрократия в современном мире: теория и реалии жизни. М. 2008. С. 124.
- Исаев И.А. Солидарность как воображаемое политико-правовое состояние. М. 2009. С. 81
- Спиридонова В.И. Западные теории бюрократии и российская действительность / Бюрократия в современном мире: теория и реалии жизни. М. 2008. С. 39.
- Баринова Е.Б. Аккредитация программ подготовки научно-педагогических кадров в научных организациях : метод. пособие. М. 2020. С. 7.
- Валтари М. Турмс бессмертный. Исторический роман [Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=28904&p=95 (дата обращения: 23.11.2020).
- Баринова Е.Б. Указ соч. С. 10-17, 18-24, 26-28, 31-33.
- Гидденс Э. Устроение общества : Очерк теории структурации. М. 2005. С. 70.
- Исаев И.А. Указ. соч. С. 76.
- Маннгейм К. Идеология и утопия / Диагноз нашего времени. М. 1994. С. 102-103.
- Касториадис К. Воображаемое установление общества. М. 2003. С. 178.
- Исаев И.А. Указ. соч. С. 78.
- Ханин Г.И. Высшее образование и российское общество [Электронный ресурс] // Всероссийский экономический журнал ЭКО. 2008. № 8-9. URL: www.econom.nsc.ru/eco/arhiv/ReadStatiy/2008_09/Hanin/ (дата обращения: 23.04.2021).