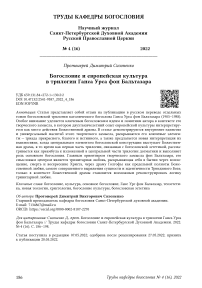Богословие и европейская культура в трилогии Ганса Урса фон Бальтазара
Автор: Сизоненко Димитрий Викторович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Отзывы и размышления над книгами
Статья в выпуске: 4 (16), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой отзыв на публикацию в русском переводе отдельных томов богословской трилогии католического богослова Ганса Урса фон Бальтазара (1905-1988). Особое внимание уделяется ключевым богословским идеям и понятиям автора в контексте его творческого замысла, в котором двухтысячелетний опыт европейской культуры интерпретируется как место действия Божественной драмы. В статье демонстрируются внутреннее единство и универсальный масштаб этого творческого замысла, раскрываются его ключевые элементы - триада прекрасного, благого и истинного, а также предлагается новая интерпретация их взаимосвязи, когда центральным элементом богословской конструкции выступает Божественная драма, в то время как первая часть трилогии, связанная с богословской эстетикой, рассматривается как преамбула к изложенной в центральной части трилогии догматики и выполняет роль основного богословия. Главным ориентиром творческого замысла фон Бальтазара, его смысловым центром является тринитарная любовь, раскрывающая себя в бытии через воплощение, смерть и воскресение Христа, через драму Голгофы как предельной полноты Божественной любви, самого совершенного выражения сущности и идентичности Триединого Бога; только в контексте Божественной драмы становится возможным реконструировать логику тринитарной любви.
Богословие, культура, основное богословие, ганс урс фон бальтазар, теоэстетика, новая теология, христология, богословие культуры, богословская эстетика
Короткий адрес: https://sciup.org/140297241
IDR: 140297241 | УДК: 659.131.84+272-1+130.2:2 | DOI: 10.47132/2541-9587_2022_4_186
Текст научной статьи Богословие и европейская культура в трилогии Ганса Урса фон Бальтазара
About the author: Archpriest Dimitry Viktorovich Sizonenko
Senior Lecturer of the Department of Theology at the St. Petersburg Theological Academy.
The article was submitted 07.05.2022; approved after reviewing 27.05.2022; accepted for publication 28.05.2022.
В течение последних лет в издательстве Библейско-богословского института св. ап. Андрея в серии «Современное богословие» вышли в свет четыре тома великой богословской трилогии Г. У. фон Бальтазара1, которого в определенном смысле по достоинству и справедливо называют «Фомой Аквинским двадцатого века».
Для наилучшего понимания богословской мысли этого автора прежде всего следует обратиться к знаковым событиям жизни, которые ярко характеризуют его личность и творчество.
Ганс Урс фон Бальтазар родился 12 августа 1905 г. в Люцерне (Швейцария), унаследовав от своих предков аристократизм, католическую веру и любовь к искусству. В ранней юности он готовился к карьере музыканта, однако позже решил посвятить себя изучению германистики, включавшей в себя лингвистику, философию языка и немецкую культуру в широком значении слова. Годы учебы в трех самых престижных университетах германоязычного мира — Вены, Берлина и Цюриха — увенчались защитой диссертации по философии «История эсхатологической проблематики в немецкой литературе», которая в расширенной редакции была опубликована в 1937–1939 гг. под заглавием «Апокалипсис немецкой души». В этом исследовании наш автор обратился не к богословским трактатам, а к творчеству выдающихся европейских философов и поэтов XVIII– XX вв., он стремился различить сокровенное присутствие христианского духа в великих творениях западной культуры. Колоссальная эрудиция и «симфоническое» восприятие истины, проявленные в этой работе, стали отличительной чертой богословского стиля и принесли фон Бальтазару заслуженную репутацию «одного из самых образованных людей своего времени»2.
Осенью 1927 г. во время духовных упражнений Игнатия Лойолы его озари -ло осознание собственного призвания к священству, которое в 1929 г. привело фон Бальтазара в Общество Иисуса. Обучение в ордене иезуитов поначалу проходило в Пуллахе, где он под влиянием своего старшего друга и наставника Э. Пшивары приступил к переводу на немецкий язык комментариев блж. Августина на псалмы. В 1936 году он был рукоположен в священный сан и некоторое время после этого работал в мюнхенском журнале Stimmen der Zeit («Голоса времени»), печатном органе духовного сопротивления нацизму. Во время обучения в Лионе он сблизился с А. де Любаком и вошел в круг ревнителей «возвращения к истокам». Освоение святоотеческого наследия позволило ему преодолеть тесные рамки неосхоластики и открыть для себя внутреннюю связь между догматикой и практикой жизни, между богословием и святостью.
Во время Второй мировой войны фон Бальтазар получил пост капеллана при Базельском университете и всецело посвятил себя богословскому образованию мирян, отказавшись от профессорства в престижном Григорианском университете.
Исключительное влияние на дальнейшую судьбу нашего автора оказала дружба с Адриенной фон Шпайр (1902-1967), которая в его лице обрела чуткого духовного наставника и мудрого собеседника. Совместными усилиями они основали Общину Святого Иоанна, представлявшую собой влиятельное движение мирян. Для публикации книг, выражавших дух этой общины, было основано издательство Святого Иоанна ( Johannes Verlag). Между тем, генерал ордена иезуитов Ж.-Б. Янссенс указал фон Бальтазару на несовместность его деятельности с дальнейшим пребыванием в Обществе Иисуса. Так, в 1950 г. базельский богослов принял трудное для себя решение покинуть Орден. В результате он оказался без крыши над головой и без определенного места служения. Друзья предоставили ему жилище в Цюрихе, епископ города Кур позволил ему служить мессы, однако официальное назначение в клир этой епархии состоялось лишь в 1956 г.
В 1960 г. фон Бальтазар приступил к созданию своего magnum opus , работа над которым завершилась в 1987 г., незадолго до его кончины. Одновременно он продолжал публиковать десятки статей и книг, которые приобретали широкую известность, вызывая живой интерес у одних и враждебную критику у других. Официальное признание к фон Бальтазару пришло лишь в последние годы жизни. Так, в 1984 г. Папа Иоанн Павел II наградил его премией Павла VI за выдающийся вклад в развитие богословия. Богослов скончался 26 июня 1988 г., за два дня до заседания консистории, на котором должно было состояться возведение его в кардинальское достоинство.
Состав трилогии
Разделы своего magnum opus фон Бальтазар озаглавил необычным образом: Herrlichkeit: Eine theologische Aesthetik («Слава Господа: богословская эстетика»), ^eodramatik («Теодрама») и ^eologik («Теологика»). В завершение ко всему корпусу текстов был написан «Эпилог». Термины «эстетика» и «логика» были широко распространены со времен Канта и ни у кого не вызывали недоумения. Недоумение критиков вызвала «драма», помещенная в центр трилогии.
Триада прекрасное — благое — истинное послужила автору для построения всеобъемлющего богословского синтеза в трех направлениях: эстетическом, практическом, логическом. Нередко ее рассматривают в соотношении с тремя атрибутами бытия, трансцендентальными предикатами единое , благое и истинное, ставшими классическими в схоластической традиции3. Эти «свойства бытия» взаимно переходят друг в друга: где истина, там же находится добро и красота; где добро, там пребывает истина и красота; где красота — там и добро, и истина.
Однако фон Бальтазар не руководствовался исключительно философскими соображениями и, безусловно, его трилогия — это триптих: главная часть («Божественная драма») находится в центре, а две боковые панели, посвященные богословской эстетике и теологике, выполняют в некотором смысле роль оркестрового сопровождения. В обширнейшей бальтазариане нередко из трех трансценденталий предпочтение отдается прекрасному, многие исследователи читают только вводные тома и на этом основании делают свои выводы о произведении в целом. Фон Бальтазар писал, что такое прочтение свидетельствует о полном непонимании основного намерения автора4. В «Эпилоге», написанном за несколько месяцев до смерти автора, возникает другая метафора: трилогия сравнивается с величественным собором, а отдельные ее части — с портиком, притвором и купольным сводом.
Первая часть триптиха представляет собой завершенное произведение, однако она является лишь первой ступенью к постижению всеобъемлющей тайны: в дальнейшем прекрасное должно быть интегрировано с благим и истинным . Немецкое слово Herrlichkeit («слава», «великолепие», «величие»), этимологически образованное от der Herr (Господь), направляет мысль автора к сиянию самого бытия, к свободному самооткровению Бога. В целом теоэсте-тика, которая по сути является «богословием формы» и учением о воплощении славы Божией, в замысле фон Бальтазара выполняет роль фундаментальной теологии, вступительной части к изложению догматики.
Лишь в центральной и основной части триптиха — в «Теодраме» — есть главы, которые по своему содержанию напоминают традиционные разделы догматики: богословская антропология, христология, мариология, экклезио-логия, ангелология, сотериология, эсхатология и, наконец, учение о Пресвятой Троице. В завершающей части трилогии, в «Теологике», дается теоретическое обоснование ключевых моментов «Теодрамы».
Богословская мысль фон Бальтазара разворачивается на необъятных просторах мировой художественной культуры, истории, поэзии, искусства, философии. После серии монографий, помещенных в томе «Сферы стилей» и посвященных в большей степени истории литературы, чем богословия, следует том «В пространстве метафизики», в котором дается обстоятельный, почти на тысячу страниц, обзор истории идей: от Гомера до Хайдеггера. Изложение необозримого материала при этом не является механическим нагромождением известных или малоизвестных имен и фактов — оно постепенно создает в сознании читателя завершенный гештальт христианства. Аналогичным образом, в «Пролегоменах» к «Теодраме» наш автор предлагает общий обзор драматического искусства с элементами систематического осмысления философии драмы с единственной целью — подготовить читателя к восприятию того, как Бог действует в истории человечества.
В первом томе «Теологики» фон Бальтазар конструирует философский каркас богословского дискурса посредством феноменологического рассмотрения истины мира. В этом томе нет обстоятельных подстрочных примечаний и библиографии, что заметно отличает его от других частей трилогии; он был написан и впервые опубликован в виде отдельной книги еще в 1947 г. Выраженные в нем интуиции в течение последующих лет постепенно обретали форму и, наконец, получили развитие в сумме теологии, построенной с необъятно широким привлечением внебогословского материала. Второй том, «Истина Бога», носит исключительно богословский характер. Безусловно, он был написан под влиянием А. фон Шпайр, духовное общение с которой привело швейцарского богослова к острому осознанию недостаточности исключительно философских оснований. В небольшой книге с выразительным заглавием «Достойна веры лишь любовь»5, опубликованной в 1963 г., он уже предварительно изложил те идеи, к которым позже вновь обратился в «Истине мира». При поверхностном взгляде логика любви может показаться тривиальной поэтической метафорой, но в действительности именно она позволяет автору на более высоком уровне разрешить вековой спор томистов и модернистов, каэтанцев и блонделианцев, поборников автономии человеческого разума и глашатаев абсолютного превосходства любви6.
Сумма теологии, представленная в трилогии, содержит в себе необозримое богатство материала, которое играет роль более чем просто свидетельства о феноменальной эрудиции автора. Сама структура произведения обусловлена стремлением охватить единым взглядом необъятные горизонты опыта европейского духа, если понимать это слово в том значении, в каком Гегель свою «Феноменологию духа» изначально хотел назвать «наукой об опыте сознания». Однако, в отличие от классика немецкого идеализма, наш автор представил историю идей не диалектически, а феноменологически, в русле гётевского созерцания формы, чему посвящен первый том «Славы Господа». Богословие фон Бальтазара, в отличие от гегелевской философии религии, не является простой тринитарной надстройкой к истории идей, но по самой сути проистекает из онтологии Пресвятой Троицы.
В произведениях нашего автора трансценденталии не являются философскими a priori , на основе которых можно было бы строить рассуждения об Откровении, скорее напротив, они помогают выразить modus operandi тринитарной любви a posteriori . В двух заключительных томах «Славы Господа» автор показывает, что свое богословие он строит не как непрерывную линейную последовательность логических утверждений, но свое внимание обращает в большей степени к разрывам в Божественном домостроительстве. Например, в «Теологике» он признается: «От того, что в первом томе рассматривалось как истина, к этому речению Иисуса нет никакого последовательного перехода, только скачок. “Я есмь истина” (Ин 14:6) как высказывание какого-то человека не может идти снизу вверх. А только сверху вниз»7. Таким образом, христианскую теологию фон Бальтазар рассматривает как непосредственное выражение Божественного Откровения, особенно когда речь заходит о богословии св. евангелиста Иоанна, ставшем ему особенно близким в процессе записи устных толкований А. фон Шпайр и в свете её духовного опыта.
Ключевые идеи трилогии
Чтобы подобрать герменевтический ключ к трилогии, попытаемся обозначить общие контуры того, как фон Бальтазар в целом понимал Божественное Откровение. Схематически выделим четыре основные направления его мысли.
Бог даёт Себя увидеть . Для нашего автора Откровение становится реальностью этого мира не только в форме Слова, которое должно быть услышано. Уже самим фактом, что Слово может быть услышано, открывается возможность и необходимость более всеобъемлющего опыта. Великолепие Господа, красоту Его славы и сияние Его любви, человек может увидеть глазами веры ; именно Его любовь является достойной веры . Выводы, которые следуют из фундаментального богословия, представленного во вступлении к трилогии, легли в основу богословской эстетики. При этом фон Бальтазару очень важно показать тени этого великолепия, явленные в истории мира. Таким образом, пространные исторические экскурсы в «сферу стилей» являются чем-то бесконечно большим, чем демонстрацией богатейшей эрудиции автора.
Бог действует в истории. Человек ничего не может сказать о том, каким образом Бог проявляет себя в вечном Божественном бытии. Однако Бог действовал и продолжает действовать в истории, в этом действии проявляется великолепие Его любви; ни о чем более великом, чем домостроительство спасения, невозможно и помыслить. Действия Бога в мире и в истории человечества всегда носят тринитарный характер. Сын, послушный воле Отца, действует силой Святого Духа. Дух ведёт Сына. Однако действию любящей и бесконечной свободы Бога противодействует несовершенная и поврежденная грехом свобода человека. Таким образом «Божественная драма», т. е. богословие действия Бога и ответного действия человека, оказывается в самом центре теологической конструкции, которая позволяет в новом свете представить традиционные разделы классических богословских трактатов.
Смирение Божией Матери. Бог действует в истории, но Его действие и великолепие Его любви нуждаются в ответной взаимности и послушании со стороны человека. Поэтому человеческую свободу надлежит понимать не только как противостояние Богу; она призвана осуществить себя прежде всего как открытость и гостеприимство. Совершеннейший образ такой свободы явлен в гостеприимном смирении Божьей Матери, которая стала живой иконой Церкви. Сама по себе открытость верующей души в отношении Бога является благодатным даром и проявлением изначальной Божественной заботы. Когда в ответ на ангельское благовестие Дева Мария сказала «Се, Раба Господня, да будет Мне по слову твоему» (Лк 1:38), в отношениях между человеком и Богом стал возможен искренний диалог по ту сторону драматического противостояния. Следует отметить, что для нашего автора основополагающим принципом теологии является диалогичность, именно она принципиально отличает богословие, в частности, от диалектики.
Любовь, послушание, миссия. Действия Бога суть проявления Его любви, тринитарной любви Отца и Сына в Духе Святом. Любящий Отец — источник всего сущего. В лоне тринитарного бытия Сын в любви и послушании принимает на Себя миссию Боговоплощения, исполняет её при содействии Святого Духа. Ключевой категорией в христологии фон Бальтазара является послушание как проявление любви, способной принимать и всецело предавать себя другому, кульминация этого достигается в кенозисе. В свою очередь, Сын передает эту миссию апостолам и всем, кто слышит Его. Таким образом, христианская жизнь рассматривается прежде всего в аспекте посланничества. Уникальная миссия Иисуса Христа разворачивается в истории Церкви как кафолическое многообразие индивидуальных призваний. Одна из основных задач богословия состоит именно в том, чтобы за этим многообразием различить единую реальность Царства, основанного Христом.
Для богословия, как в прошлом, так и в настоящем, весьма характерны два подхода к Откровению, которые фон Бальтазар описывал в терминах космологической и антропологической редукции . В первом случае происходит превозношение природы как возможного выражения Абсолюта; во втором случае в центре внимания оказывается человек как мера всякого познания. И в том, и в другом случае господствует преувеличенная субъективность. Наш автор, напротив, настойчиво подчеркивает объективность Богооткровенной данности, он рассматривает целостный и всеобъемлющий Gestalt Christi как форму всякого теологического познания и основание достоверности христианского откровения; только поклонение и созерцание позволяют богослову приблизиться к тайне.
В центре богословской рефлексии фон Бальтазара находится христоло-гия — личность Иисуса из Назарета, явившего миру Отца. В лице Христа, в Бо-говоплощении, отсылающем к тайне любви Триединого Бога, фон Бальтазар видит выражение «конкретной аналогии бытия», которая позволяет говорить о Боге, не прибегая к категориям имманентности и трансцендентности.
На подступах к трилогии
Осознавая богословскую миссию как своё собственное призвание, фон Бальтазар постарался показать, что явленная и зримая глазами веры любовь Бога непосредственным образом связана с европейской культурой. Задолго до того, как эта интуиция получила своё наиболее полное развитие в богословской эстетике, она была заявлена в трехтомнике «Апокалипсис немецкой души». Уже в этой ранней работе наш автор попытался в целом представить интеллектуальную историю Германии Нового времени. В ней он обратился к несметному духовному богатству поэзии, философии и богословия от Лессинга до Рильке, оценивая всё с христианской точки зрения. Вместо того, чтобы открыть очередную богословскую дискуссию, фон Бальтазар стремился подвести читателя — независимо от его осознанного желания или нежелания — к открытию Того, Кто является истинным и уникальным шедевром — ко Христу.
Если в «Апокалипсисе немецкой души» внимание фон Бальтазара было обращено к субъективным суждениям отдельных авторов, то в трилогии горизонты интеллектуального противостояния расширились до масштабов «европейского решения» в драматическом противостоянии двух свобод. Знаменательным моментом в истории культуры он считал имплицитный спор Ф. Ницше с С. Кьеркегором и Ф. М. Достоевским, в нем он видел предельное выражение самой сути противостояния христианского миросозерцания и атеизма. Более развёрнутым образом он показал это в томе «В пространстве метафизики» — задолго до Ницше поляризующее действие христианства достигло высочайшего напряжения в драматическом противостоянии между двумя установками мысли и в «европейском решении», т. е. в христианской рецепции Плотина8. Поздняя античность, по мнению нашего автора, оказалась перед дилеммой принять или не принять платонизм как всеобъемлющую и окончательную философию, как философию идентичности, или же оставаться в состоянии ожидания, в устремленности к будущему. Т. е. совершить выбор в пользу непостижимого Бога, как это сделали Отцы Церкви, а в более поздние времена — Кьеркегор.
В значительной степени своеобразие богословской мысли фон Бальтазара было обусловлено самым живым интересом к Отцам Церкви, в частности, к наследию александрийской школы. Произведения Оригена, свт. Иринея Лионского, свт. Григория Нисского, блж. Августина, Дионисия Ареопагита и прп. Максима Исповедника заставляли его задуматься над тем, каким образом происходила «трансформация античной мысли в христианскую теологию, которая предвосхищает и бесконечно превосходит собой немецкий идеализм и многие интуиции Хайдеггера»9.
Христианское осмысление европейской культуры происходило также в процессе плодотворной переводческой и издательской деятельности. Достаточно упомянуть перевод грандиозной мистерии П. Клоделя «Атласный башмачок», поэзии Ш. Пеги, три тетради о Ницше в «Клостербергской коллекции», монографии о Р. Шнайдере, Ж. Бернаносе, М. Бубере. В цикле лекций 1946–1947 гг., посвященных богословию трагедии, наш автор отмечает: «И когда позже к этому добавилось новая интерпретация греческой трагедии, появилась уверенность, что решающую роль в противостоянии между античностью и христианством сыграл не столько тысячелетний диалог между Платоном и патристическо- схоластической теологией, сколько спор между драматургом и святым о смысле человеческого существования, между трагическим и христианской верой»10.
Одновременно с этим фон Бальтазар исследовал и обратный процесс: в лекциях о Карле Барте и в монографиях о нем наш автор обратился к исследованию культурного бэкграунда своего коллеги, решительно отвергавшего саму идею протестантской культуры.
В дискуссиях с К. Бартом и А. фон Шпайр родилась небольшая книга «Теология истории»11, в которой наш автор изложил христологическую трактовку исторического времени как пространства ожидания Сына Божьего и часа , определенного Отцом. Боговоплощение является центральным историческим событием, вся многовековая история человечества и все аспекты исторического существования получают свое основание во Христе.
Оживленный интерес и у критиков, и у почитателей фон Бальтазара вызвали две небольшие книги на животрепещущие вопросы: во-первых, пламенный призыв к Церкви выйти в мир, под названием «Разрушить бастионы»12, а во-вторых, сборник размышлений о христианстве с точки зрения науки, религиоведения и философии — «Бог и современный человек»13. В основу будущей трилогии также легли некоторые наброски, опубликованные в двухтомнике «Очерки по богословию» (в частности, небольшое эссе «Откровение и красота»14). С течением времени накапливался материал, и, наконец, настал момент поставить фундаментальные проблемы богословия и культуры, теологии и истории философских идей.
Христианская теология и европейская культура
С полным основанием можно утверждать, что богословие фон Бальтазара соединяет в себе два противонаправленных течения. В XX в. наш автор предпринял то, что Отцы Церкви совершили в эпоху поздней античности и раннего Средневековья — в свете Божественного Откровения они предложили новое осмысление эллинского культурного наследия и тем самым заложили основы христианского богословия, позаимствовав сам термин «теология» у Платона. Благодаря их прочтению наследие античности впоследствии было усвоено христианством, первой эманацией которого стала европейская культура15.
На протяжении двухтысячелетней истории соприкосновение мысли и человеческого опыта с христианской верой нередко принимало драматический и даже трагический характер. Поэтому неизбежное противостояние христианского богословия стихиям западной культуры наш автор представил в терминах многовековой «Божественной драмы». Историю непрекращающегося противоборства между христианством и атеизмом фон Бальтазар представил в грандиозных символах, заимствованных из Откровения Иоанна Богослова. Так, третий том «Теодрамы», озаглавленный «Действие», всецело разворачивается под знаком Апокалипсиса, а завершается Божественная драма величественным «Финалом» — теологией Триединого Бога.
Своего рода зеркалом для созерцания Божественного действия, theatrum Dei , в котором мы принимаем участие как протагонисты и как зрители, служит литературный жанр драмы, поскольку «именно с греческой трагедией, а не с философией, христиане вели диалог; именно трагедия дает золотой ключ к событию Иисуса Христа , потому что она содержит в себе и превосходит все, что ранее могло служить ключом. Ключ, который не является философией. Трагедия — это мистерия, разыгрываемая верующими для верующих, одновременно как зрителей и как действующих лиц; ее стремление представить божественную и божественно- человеческую славу может — как и у христиан — иметь смысл только в восприятии верующих»16.
Итак, Теоэстетика служит своего рода преамбулой к Теодраме. Оно подготавливает зрителей и участников действа к восприятию божественной славы, оно как бы готовит сцену, на которой разыгрывается божественная драма, охватившая собой всю историю человечества. Сцена расширяется по меньшей мере до масштабов двухтысячелетней истории европейской культуры, в которой Слово Божие в некотором роде воплотилось еще раз — через веру и интеллектуальную деятельность христиан. Во Христе Бог вошел в историю как факт, Боговоплощение стало точкой отсчета для исторического времени, само это служит основанием для того, чтобы всемирную историю, искусство и литературу рассматривать как своего рода матрицу для теологии.
Вторжение Бога в историю не является каким-то единичным фактом, событием далекого прошлого. Христос присутствует и непрерывно действует в истории, приглашая каждого человека стать сопричастным Его посланни-честву и превратить свою человеческую роль в Божественную миссию . Особый интерес фон Бальтазара к исключительности миссии человека объясняет его любовь к жанру монографии; так, во втором томе «Славы Господа» под одной обложкой собраны двенадцать монографий.
Поскольку Бог с самого начала «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2:4) — это утверждение является одним из столпов богословия фон Бальтазара, — людей, сопричастных Божественной миссии, можно обнаружить даже среди тех, кто при поверхностном взгляде могли бы показаться весьма далекими от христианства.
«Какая трудная работа предстоит ангелам в последний день, ведь им придётся идти искать и собирать Божью истину так далеко вовне, хирургическим путём извлекать её из сердец, где она всегда сосуществовала только с тьмой!» — восклицает фон Бальтазар17. В мире людей истина встречается лишь в форме разрозненных осколков, эта фрагментация становилась все более очевидной по мере распада церковного и культурного единства Европы. Неустанное стремление различить во фрагменте невидимое присутствие Целого делает богословие фон Бальтазара удивительно созвучным и близким сфере художественного творчества.
Сквозь все произведения фон Бальтазара как нить Ариадны проходит мысль, наиболее четко выраженная в томе «Истина мира»: бытие должно пониматься как диалогическое и только как диалогическое. Именно с этой позиции автор трилогии обращается к истории европейской культуры. Диалектика, как и всякая чистая мысль , является замкнутой и изолированной, только в диалоге человек открывается навстречу бытию другого и тем самым открывает себя для Бога. Всякая драма по самой своей природе диалогична. Именно благодаря тому, что эстетическая теология открыта диалогу бытия и внутритринитарному диалогу Отца и Сына, она становится увертюрой к Божественной драме, в которой прекрасное достигает окончательного свершения и полноты в финальной развязке.
Если события истории человечества и перипетии Теодрамы рассматривать как проявление Божией любви, тогда история идей и величайшие произведения европейского искусства обретают новое прочтение, раскрывающее их сокровенную природу. Тогда они сами по себе становятся инструментом богословского дискурса; благодаря этой «инструментализации»
они обретают новое измерение, обретают своё подлинное звучание — подобно тому, как в богословии Отцов Церкви античность явила свое истинное призвание как praeparatio evangelica .
Богословие фон Бальтазара является по-настоящему трудным, его произведения не позволяют делать односложных выводов и всегда требуют от читателя глубокого осмысления. Мы попытались представить отдельные ключевые моменты, которые могут служить ориентирами в сложной картине христианского Откровения. Наилучшим образом свою основную задачу наш автор выразил в книге «Достойна веры лишь любовь»: «чтобы сделать веру в христианскую весть возможной для мира»18. Это стремление можно различить во всех его произведениях, а также в деятельности Общины Святого Иоанна, основанной совместно с А. фон Шпайр.
Теологии фон Бальтазара решительно чужд дух системы, поэтому многие критики упрекали его за бессистемность и эклектизм. В центр своего богословия он поместил тринитарную любовь, раскрывающую себя в бытии через воплощение, смерть и воскресение Христа. Истина Божья явлена в драме Голгофы: смерть на Кресте во всей полноте показала, до каких пределов Бог способен пойти в Своей любви, Крест стал самым совершенным выражением сущности и идентичности Триединого Бога.
Не без тени сожаления фон Бальтазар сравнивал свой труд с бутылкой, брошенной в открытое море, в надежде, что однажды кто-то расшифрует содержащееся в ней послание. В данном случае мы имеем дело с богословием, которое выходит далеко за пределы умозрительной теологии. Поэзия, театр, музыка, искусство, философия дают автору необъятный материал, позволяющий показать, что Божественное Откровение и по сей день является единственной реальностью, обладающей полнотой смысла и достойной веры. В стремлении дать современному человеку «отчет в нашем уповании» (1 Пет 3:15) фон Бальтазар показывает, что христианская надежда не имеет ничего общего с наивной верой в загробный мир без ада, она выражает доверие к жертвенной и милосердной любви Бога, она способна открыть современному человеку истинное лицо Бога, Распятого и Воскресшего.
Список литературы Богословие и европейская культура в трилогии Ганса Урса фон Бальтазара
- Бальтазар Х. У., фон. Достойна веры лишь любовь / Пер. с нем. А. Ярин. М.: Теоэстетика, 2022. 192 с.
- Бальтазар Х. У., фон. Сердце мира / Пер. с нем. В. Карцовник. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 150 с.
- Бальтазар Г. У., фон. Слава Господа: богословская эстетика. Т. 1: Созерцание формы / Пер. с нем. О. Хмелевская. М.: Издательство ББИ, 2019. 659 с.
- Бальтазар Г. У., фон. Слава Господа: богословская эстетика. Т. 2: Сферы стилей. Ч. 1: Клерикальные стили / Пер. с нем. О. Хмелевская. М.: Издательство ББИ, 2020. 380 с.
- Бальтазар Г. У., фон. Теологика. Т. 1: Истина мира / Пер. с нем. А. Лукьянов. М.: Издательство ББИ, 2013. 301 с.
- Бальтазар Г. У., фон. Теологика. Т. 2: Истина Бога / Пер. с нем. А. Лукьянов. М.: Издательство ББИ, 2018. 430 с.
- Бальтазар Х. У., фон. Теология истории / Пер. с нем. А. Ярин. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 135 с.
- Гуерьеро Э. Ханс Урс фон Бальтазар / Пер. с нем. Ю. Ромашев. М.: Культурный центр «Духовная библиотека», 2009. 327 с.
- Любак А., де. Парадокс и тайна церкви / Пер. с фр. В. Зелинский. Милан: Христианская Россия, б. г. [1967]. 142 с.
- Balthasar H. U., von. La Gloire et la Croix. T. 4. Le domaine de la Métaphysique. Vol. 1. Les fondations. Paris: Aubier, 1981. 264 p.
- Balthasar H. U., von. La mia opera ed Epilogo. Milano: Jaca Book, 1994. 176 p.
- Balthasar H. U., von. Die Gottesfrage des heutigen Menschen. Wien: Verlag Herold, 1956. 223 s.
- Balthasar H. U., von. Schleifung der Bastionen: von der Kirche in dieser Zeit. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1952. 83 s.
- Balthasar H. U., von. Verbum Caro. Skizzen zur Theologie I. Einsiedeln: Johannes Verlag, 1990. S. 100–134.
- Henrici P. La «Trilogie» de Hans Urs von Balthasar: une théologie de la culture européenne // Communio. 2005. T. 30 (2). P. 23–34.
- Tourpe E. La logique de l’amour. À propos de quelques volumes récemment traduits de H. U. Von Balthasar // Revue théologique de Louvain. 1998. T. 29 (2). P. 202–228.