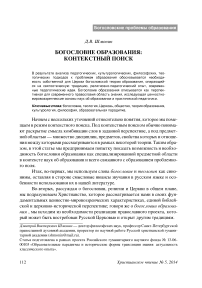Богословие образования: контекстный поиск
Автор: Шмонин Дмитрий Викторович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Богословские проблемы образования
Статья в выпуске: 5 (58), 2014 года.
Бесплатный доступ
В результате анализа педагогических, культурологических, философских, теологических подходов к проблемам образования обосновывается необходимость собственной для Церкви богословской теории образования, опирающейся на святоотеческую традицию, религиозно-педагогический опыт, современные педагогические идеи. Богословие образования описывается как перспективная для современного православия область знания, исследующая ценностномировоззренческие основы наук об образовании и практической педагогики.
Богословие, теология, церковь, общество, теория образования, культурология, философия, образовательная парадигма
Короткий адрес: https://sciup.org/140190043
IDR: 140190043
Текст научной статьи Богословие образования: контекстный поиск
Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда № 13-0600103 «Образовательные парадигмы и исторические формы трансляции знания: актуальность классического опыта».
В-третьих, речь идет о том, что не следует сводить богословие к средневековой рациональной теологии (theologia rationalis), то есть к выстроенной дедуктивно, в аристотелевско-схоластическом духе, «естественной» («философской») «науке о Боге» 1 и, тем более, только к богооткровенной теологии (theologia revelata), ядру, которое содержит в себе не подлежащие сомнению основоположения веры.
Добавим к последнему уточнению, что, по нашему мнению, столь уважительное отношение к средневековой схоластике вполне оправданно, но недостаточно для наших дней.
Оправданно, поскольку дедуктивное мышление, восходящее к Аристотелю и развитое в схоластике, является не просто этапом развития интеллектуальной и духовной культуры, но одним из фундаментальных типов рациональности, мировоззренческой позицией, обеспечивающей целостное и непротиворечивое внутренне описание мира. (Подчеркнем, что установки теологии на познание Бога в рамках «внешней науки», посредством «естественного разума», «размышлений и силлогизмов», на основе «общих понятий» касаются и Запада, и Востока) 2 .
Недостаточно, потому что подобное определение не позволяет включить в объем богословия все систематическое и дисциплинарно организованное знание, которое выстраивается на вероучительном и ценностно-мировоззренческом фундаменте религии, но далеко выходит за рамки «метафизического дискурса прежней теологии» 3 .
«Новая» теология, в отличие от «прежней», опосредована постсредневековыми, постренессансными, постреформационным, просвещенческими процессами, то есть новым и новейшим временем. Ее становление происходило в процессах, в ходе которых общество и Церковь на разных этапах испытывали (и испытывают) различные уровни «теологического напряжения»4 . Мы говорим о секуляризации, конфессионализации, а затем и либерализации церковной жизни в XIX–XX вв., благодаря которым все более очевидной становилась необходи- мость расширения содержания теологического дискурса за пределы ядра, которое составляют богооткровенные основания религиозной веры, святоотеческие учения и схоластическая scientia.
Представляется удачным описание богословия как весьма сложной многоуровневой системы дисциплин, познавательных практик и процедур саморе-флексии, направленных на осмысление и исследование такой предметной области как Церковь и ее вера 5 . Важно заметить, что эти дисциплины строятся, а практики и процедуры осуществляются изнутри, с позиций самой данной Церкви. Такое описание, включающее обстоятельный критический анализ распространенных, можно сказать, клишированных представлений о предмете теологии, выполненное К.М. Антоновым, делает излишними дальнейшее развитие этих вводных положений. Следует только сделать уточняющее повторение о том, что это дисциплинарно организованное богословское знание необязательно направлено только на рассмотрение внутрицерковной сферы, а при обращении богословского мышления к проблемам, для Церкви и ее веры формально внешним, мы сталкиваемся с новыми «отраслями», дисциплинами, направлениями исследования, такими как богословие личности, богословие культуры или богословие образования.
Именно богословию образования посвящена эта статья, точнее, в ней мы обосновываем целесообразность институционального оформления и развития этой области богословия, однако за рамками нашего рассмотрения остается тема описания ее структуры и содержания.
Для решения намеченной задачи необходим анализ второго компонента описываемого понятия — образования.
Концепт образования настолько затерт в определениях и описаниях, что по его поводу целесообразнее вообще обойтись без пространных разъяснений, указав, что мы понимаем под образованием универсальное условие воспроизводства и развития культуры, совокупность способов становления человека, синтез обучения, воспитания и просвещения, интеллектуального, культурного и духовного формирования человеческого «Я», в том числе, через открытие в душе человека образа Бога 6 .
Последнее замечание, связывающее образование и религию, не посягает на принципы гуманизма и светскости, принятые в секулярном обществе. (Если говорить о России, то эти принципы отражены, помимо Конституции, в действующем Законе об образовании, в частности, в статье 3, которая раскрывает основы государственной образовательной политики. Впрочем заметим, что светский характер образования законодательно гарантирован только в государственных и муниципальных образовательных организациях). Наше замечание о формировании человеческой личности в перспективе образа и подобия Божьего указывает по крайней мере на тот очевидный факт, что религия и образование на протяжении всей человеческой истории составляют фундамент культуры: образование играет ключевую роль в становлении личности и общественном развитии, а религия содержит выверенное, отточенное традицией ценностно-мировоззренческое ядро культуры, аксиомы нравственности и сердцевину морального опыта.
Образование существует и развивается внутри общественного организма, оно выполняет социальный заказ, тем самым влияя на заказчика, на общество (хотя мы не сторонники идеи опережающей функции образования). Другими словами, это многосторонний и многосложный социальный процесс, в котором действуют разные силы. При анализе цивилизационных, исторических особенностей развития образования его изучение выводит исследователей на глобальный уровень описания в терминах основных образовательных парадигм 7 — наиболее крупных форм педагогической теории и педагогического опыта, связанных с определенными эпохами социальной истории и соответствующими им мировоззренческими (философско-религиозными) позициями. Мы выделяем античную парадигму, христианскую (схоластическую) парадигму 8 и новоевропейскую (современную) парадигму. Заметим, что в последние десятилетия наблюдается неустойчиво-равновесное состояние, предвещающее начало пара-дигмального распада глобальной образовательной системы, которая пока еще продолжает определять теорию и практику образования, и движения к некой новой, развертывающейся парадигме, контуры которой начинают прорисовываться все явственнее.
Если мы предполагаем соединить в одном понятии теологию и образование, имея в виду, что должна быть некая специфическая богословская наука (отрасль богословского знания) об образовании, возникает необходимость упо- мянуть имеющиеся в нашем распоряжении иные формы теоретического осмысления и практического описания этой сферы, дабы убедиться, что они не охватывают все уровни ее осмысления и все стороны исследовательского интереса к ней. Это важно, поскольку мы ведем разговор не о теологическом или — шире — религиозном образовании, которые, несмотря на специфику, суть лишь частные случаи образования вообще. Не менее важно это и потому, что стандартные секуляристские подходы дают описание религии как феномена интеллектуальной и духовной жизни определенных групп людей, права и интересы которых должны быть учтены, в том числе, в сфере образования, но не более того. Следовательно, богословие, представляющее собой квинтессенцию религиозного мировоззрения, является в этой логике скорее неявным элементом образовательной среды или сопутствующим объектом исследования в педагогических дисциплинах, а не основой фундаментальной позиции по поводу самого образования.
Обратимся к общей теории образования , чтобы примерно представить себе характер работы теоретиков педагогической мысли.
По мнению одного из известных в российском педагогическом сообществе специалистов в области профессионального образования А.М. Новикова, который размышляет в терминах перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, Россия осуществляет этот переход особым образом: в нашей стране процессы развития делового (индустриального) и интеллектуального (постиндустриального) общества идут параллельно. При этом задача иметь «конвертируемое» массовое образование заставляет двигаться по пути копирования опыта западных стран (которые, добавим от себя, в большинстве своем реализуют американские модели или находятся под серьезным влиянием последних). Конвертируемость образования означает, что оно должно иметь «базу», которая будет позволять человеку относительно легко осваивать новые профессии в зависимости от меняющихся экономических и социальных условий. При этом общество (говоря в терминах социологии труда — трудоспособное население) фактически разделяется на две весьма неравные части: с одной стороны, тонкий слой элиты — профессионалов высшего класса, с другой стороны, широкие слои высокообразованных или, скорее, достаточно образованных работников, способных к изменению профиля своей профессиональной деятельности в зависимости от конъюнктуры или по личным мотивам. Отметим, что лучшие перспективы будут иметь страны, которые смогут обеспечить более высокий уровень образованности, компетентности и профессионализма в обеих группах — элитарной и массовой. При этом опасность представляют люди, которые останутся вне этих сообществ и не смогут вписаться в «высокотехнологичную» жизнь cоциума. Речь идет о весьма значительном, сопоставимом с обеими группами, числе представителей невостребованных профессий, а также тех, кто занят в примитивных отраслях сферы услуг, временно или постоянных неработающих, людей с ограниченными возможностями и т.п. Таким образом, А.М. Новиков исходит из того, что в нынешних условиях индивидуальный «путь наверх» будет определяться уровнем образования, причем если мы попытаемся кратко определить образованность в постиндустриальном обществе, то она окажется «способностью общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить»9.
Понятно, что теологии нет места в структуре подобной теории образования. Однако интересно, есть ли в этом современном секуляризме место религии, и если да, то в каком качестве?
Согласно тому же А.М. Новикову 10 , религия присутствует в теории образования только в качестве одного из объектов исследования, классифицируемых по основанию форм общественного сознания (наряду с обыденным знанием, языком, моралью, правом, политической идеологией, философией, искусством и наукой). Наличие в рамках педагогической теории такого «изучаемого феномена» как религия объясняется тем, что каждая религия (как и «антирелигия», то есть атеизм) воспитывает человека в определенных направлениях (православном, протестантском, мусульманском и т.д.), и теория образования так или иначе обязана изучать эти виды образования, равно как и исследовать вопрос о том, возможны ли общие основы религиозной педагогики. Кроме того, помимо педагогических вопросов существуют и проблемы организации религиозного образования, также относящиеся к ведению теории образования.
Таким образом, исходя из мысли А.М. Новикова, теология может быть включена в предметную область теории образования в качестве некой аксиологической начинки содержательной части конфессионального образования и религиозных традиций в целом, поскольку они воздействуют на зависимую от них часть педагогической среды. Сама же педагогическая теория не должна быть связана с теологией; она строится на иных — научных — основаниях, а научнопедагогические подходы, а значит и образовательные концепции, модели, теории зависят от социального заказа, от общества.
В самом деле, задачи, стоявшие перед образованием, на протяжении долгого времени соответствовали основной цели — подготовке узкопрофессиональных специалистов для индустриальной экономики и социальной сферы. В 1980-е гг., однако, в отечественной педагогике стала формироваться альтернативная «знаниевому подходу» культурологическая концепция, с вниманием к социальному опыту человечества как источнику содержания образования. В постсоветские 90-е гг., отличительными чертами которых стали процессы «деидеологизации», «гуманизации», «гуманитаризации» образования, культурологический подход в его многочисленных вариантах и модификациях стал восприниматься многими как способ замещения «изъятой из обращения» идеологии. Напомним, как в самом начале этого периода о задачах образования высказался (весьма сдержанно и предельно «светски» — это был 1990-й год) Д.С. Лихачев: «Образование, подчиненное задачам воспитания,…возрождение человека как чего-то высшего, которым должно дорожить, возрождение чувства совестливости и понятия чести — вот в общих чертах то, что нам нужно в XXI веке» 11 . Дело специалистов (и тема другой работы) рассматривать вопрос о том, как осуществлялось взаимодействие культурологических подходов внутри теории образования с культурологическими концепциями, порожденными постсоветским временем и бурным развитием самой культурологии как институционально новой области знания. Отметим, однако, что появление целого направления исследований — педагогической культурологии (культурологии образования) имело достаточное основание и сыграло важную роль в осмыслении феномена образования со стороны, с внешних для педагогики позиций, причем в новых исторических и социальных условиях, исключавших, повторим, идеологию, которая на протяжении семи десятилетий до этого выполняла ценностно-нормативную функцию в обществе.
Пример того, что сама педагогическая наука заявляет о необходимости взгляда со стороны, можно найти в уже использовавшейся нами статье А.М. Новикова «О структуре педагогической теории», в которой автор наряду с другими объектами исследования педагогической теории кратко описывает и мораль как «форму общественного сознания». Он оценивает современную ситуацию в мире как острую и сложную, требующую осмысления социологических, психологических, педагогических и других аспектов социальной этики и указывает на трудно решаемые проблемы (набор стандартен: распространение этно- и ксенофобии; отсутствие толерантности, обилие несортированной, неуправляемой и опасной информации в сетях и т.п.), негативно влияющие на устои общества. И задача системы образования — вмешаться в эти процессы, для чего необходимо соответствующее научное обеспечение12.
Можно сказать, что попытки найти такое научное обеспечение в рамках культурологии велись весьма интенсивно, и эта работа продолжается. Обозреть ее не представляется возможной, мы можем лишь указать на некоторые результаты и перспективы этой работы 13 . Поиски культурологических оснований образования привели тех, кто этим занимается, к осознанию того, что цели воспитания, например, имеют вторичный и даже третичный характер по отношению к ценностям 14 , и что в современном образовании назрела необходимость легитимировать саму образовательную стратегию через возвращение к таким предельным понятиям как, например, идея образования, без которой невозможно говорить о целях, что позволило бы педагогике выработать адекватные целям методы и формы современного образования 15 .
«Образование — раствор культуры», — метафорично замечает А.Г. Асмолов16 и далее дает образованию такое определение: «Образование… — это ценностное полагание, а сфера образования — ключевая интеллектуальная и ценностно-духовная сфера жизни общества, которая ведет за собой развитие общества и определяет ценностные горизонты нашей культуры»17. Заметим во второй раз, что мы не склонны разделять оптимизм по поводу опережающей социальной функции образования; здесь хотелось бы обратить внимание читателя на другое, а именно на то, что интерес к ценностной составляющей образования в нашей педагогической науке нередко сочетается с просьбами о научном обеспечении решения проблем морали в сфере педагогики. Также позволим себе напомнить о сказанном нами выше: именно религиозная традиция, неизменно «выносимая за скобки» педаго- гической теории и содержит ценностно-мировоззренческое ядро культуры, включающее начала нравственности.
Однако следует рассмотреть еще одну точку зрения на образование, ту, что мы привычно называем философской. Трудно говорить о четких границах между теорией образования, культурологией образования и философией — употребим здесь тот же родительный падеж — образования. Разумеется, если ставить задачу демаркации, то основания для подобного разделения, окажутся скорее всего методологические, но нас в этой статье интересует несколько иное — быстрый взгляд на философию образования как отраслевой отдел философии и, если это будет возможно, общий вывод о «пользе философии» для образования.
Философию образования можно понимать по-разному. Если считать все философское мышление об образовании, начиная с античности, протофилософией образования, то в «собственном» значении (которое на самом деле оказывается весьма и весьма широким) говорят о ее появлении на Западе в середине ХХ в. В панорамной монографии А.П. Огурцова и В.В. Платонова «Образы образования. Западная философия образования. ХХ век» показывается, что этот новый сегмент философской рефлексии появляется в американских и британских общественных объединениях, ставших площадками для диалога философов и педагогов, где обсуждались выходящие за пределы педагогики основания, цели и идеалы педагогической деятельности и образования, методы проектирования новых образовательных моделей и институтов 18 . Эти дискуссии порождают различные направления, действующие в духе англо-американской аналитической традиции, формирующие критико-рационалистические программы, работающие в герменевтической, антропологической, экзистенциальнодиалогической методологиях, наконец, в разных вариантах постмодернистско-деконструктивного дискурса.
При этом авторы подают весьма тревожный сигнал, указывая на то, что «прежний разрыв между философией и образованием, когда философия выдвигала некие глобальные проекты и умозрительные программы, а педагоги лишь принимали и конкретизировали эти проекты в своих разработках, — одна из угроз для существования европейской цивилизации (курсив мой. — Д.Ш. )» 19 .
Поэтому философия образования необходима как теория среднего уров-ня 20 , то есть, по Р. Мертону, теория, позволяющая преодолеть разрыв между глобальной философией и эмпирически ориентированной практикой 21 .
В Россию философия образования пришла примерно в то же время, когда и культурология. Мы вынужденно оставляем за скобками многочисленные и небезынтересные дискуссии 1990-х–2000-х гг., результаты которых свидетельствуют о непростой «истории становления и болезнях роста» 22 российской философии образования, которая, преуспев в своей социальной институционализации (кафедры в вузах, лаборатории, ассоциации, конференции), пока не сложилась как область знания, необходимая педагогике и самой философии 23 .
Рискнем предположить, что это может быть не только следствием плюрализма подходов и пока еще небольшим по историческим меркам периодом развития, но и завышенными ожиданиями тех, кто стремится найти в ней новую метатеорию образования, способную «объяснить и раскрыть мир образования как целенаправленно создаваемую ... реальность, определяя этим самым, в каком направлении может (программно и планово) использоваться творческий, исследовательский потенциал педагогической науки» 24 или «выявить основополагающие принципы педагогических концепций и показать их жизнеспособность и перспективность или, наоборот, непродуктивность и бесперспективность» 25 .
Вместе с тем, о философии образования иногда говорят как об излишнем построении, поскольку педагогика как наука должна опираться исключительно на научные способы построения и обоснования, а иногда — как о необходимом для ХХI века проекте прикладной философии 26 , имеющем историческое и перспективное измерения.
Высказываются надежды на появление «современной интегральной философии образования», которая обеспечила бы для «точку равновесия между Ин- тернетом,…действительностью, эмпирическими науками и гуманистическими обязанностями»27.
С мыслью о необходимости поиска новых идеалов образования 28 коррелируют описания новоевропейской рационально-экспериментальной образовательной парадигмы 29 . Некоторых философов мысль о том, что классическая образовательная парадигма исчерпала себя, приводит к конструированию новой « чистой идеи образования» в духе «модернизированного гегельянства», которая соответствовала бы постнеклассической эпохе 30 .
Вариантов много; поэтому заметим в заключение нашего краткого обзора, что попытки возвращения к образцам мышления в понятиях вполне естественны в логике философского и культурологического дискурсов, стремящихся решать «прикладные» задачи с использованием инструментария и нормативной базы обкатанных в философской классике универсалий культуры. В определенной мере это реакция на начавшиеся в 50–60-е гг. ХХ в. регулярные атаки на образование (идеи «дескуляризации общества», «антипедагогики», «деконструкции образования», постмодернисткие оценки образования как проявления тоталитаризма, авантюры и т.п.).
Однако такой поиск ответов на вызовы времени напоминает попытки написать новую философскую формулу образования, где к классическим — от Платона и Аристотеля до Канта и Гегеля — константам добавлялись бы вводимые жизнью переменные.
Обратимся теперь собственно к богословию, или теологии, как иному, в сравнении с педагогической теорией, культурологией и философией, способу осмысления образования, который отличается от рассмотренных выше способов своей принципиально религиозной мировоззренческой позицией (но это не эксклюзивно — ведь существуют религиозно-философские позиции) и методо- логией. Взгляд на такую прикладную теологию требует опоры на современные западные концепции.
Первый пример — учение католического теолога Бернарда Лонергана, содержащее описание трансцендентальной рефлексии всей познавательной и коммуникативной деятельности человека. В этом учении теология предстает в качестве системы многофункционального специализированного знания, обеспечивающей связь между культурой как целым и религией как частью 31 . Таким образом, задачи теологии выходят за пределы описания религиозной сферы, а само богословское знание опирается на процедуры интенционального анализа и учитывает две концепции культуры — классическую («классицистскую») и динамическую («эмпирическую»).
В перспективе динамической концепции культуры теология мыслится как «постоянное свершение», в концепции классической — как «набор смыслов и ценностей, формирующих образ жизни», который то столетиями может сохраняться неизменным, то медленно эволюционировать, то вдруг попадать в полосу быстрых разрушительных перемен. И тогда теология — не некий plus quam perfectum, а динамичный процесс осмысления действительности.
Мы рискнули бы добавить: в теологии одновременно существует и неизменное и динамичное, поэтому допустимо и оправданно комбинирование 2-х подходов, 2-х позиций, возможно перемещение фокуса со статического ядра богословской классики на динамичную периферию, и наоборот; важно, чтобы эта смена перспектив не приводила к содержательной («о какой теологии мы говорим?») и методологической («какие методы используем?») путанице. И если мы понимаем, что теология — наука о Боге (1-й план) и «о человеческой реальности» (2-й план), то мы должны согласиться с тем, что для решения системы задач 2-го плана эта наука должна интегрироваться с другими, как говорит Лонерган, «релевантными отраслями исследований человека». В этом случае, вслед за автором замечательного труда о теологическом методе, мы говорим об указанном методе как о каркасе для совместного творчества, задающем разнообразные «совокупности операций, которые надлежит выполнять теологам при решении различных задач»32. «Современный метод мыслит эти задачи в контексте современной науки, современных гуманитарных исследований, современной философии, историчности, коллективной деятельности и коллективной ответственности» 33.
Это и есть метод, «параллельный методу в теологии», включающий «функциональные специализации разыскания, интерпретации и истории», которые «могут прилагаться к данным в любой сфере ученых гуманитарных иссле-дований» 34 .
В современном католическом богословии имеются и другие примеры описания теологической методологии и теме взаимодействия теологии и гуманитарных наук. У К.Ранера, например, трансцендентальная рефлексия приобретает антропологически выраженную сверхзадачу показать, что Бог — подлинное основание жизни и смысл бытия конкретного человека 35 . Ранер определяет антропологию именно как трансцендентальную потому, что она с предельно общих позиций раскрывает многообразие экзистенциального опыта человека, а этот опыт, в свою очередь, становится методом теологии (через переход к богословским категориям и понятиям). Таким образом, учение Ранера предлагает экзистенциально-антропологический способ осмысления христианского вероучения, при котором теологические категории расширяют свое значение, рождая с помощью философского языка новые концепты, которые могут охватывать и образование. С помощью этих новых концептов Ранер дает антропологическое обоснование самой теологии 36 .
В связи с предметом и задачами нашей статьи можно отметить, что гуманитарно-теологические взаимосвязи в католическом богословии ХХ века действительно находят свое выражение в богословской антропологии, богословии личности. Следует указать на четко организованные (как структурно, так и методологически) современные труды, в которых вполне ясно фиксируется различие между философской и богословской антропологиями37. Если первая рассматривает человека как существо, действующее в социуме, то вторая — как существо, отпадшее в силу своего греха и ищущее спасения в перспективе Божественной благодати38.
Осознание Римской Церковью важности теологического решения проблем современного образования связывают с энцикликой папы Пия XI «Divini illius Magistri» (1929) 39 , непосредственное становление теологии образования начинается c середины ХХ в. 40 , а к началу ХХI столетия эта автономная дисциплина прирастает несколькими систематическими трудами 41 .
По мнению современного католического специалиста в этой области, чилийца Э. Гарсиа Аумады, «теология образования — это систематическое и критическое учение об образовании с точки зрения веры» 42 ; в его основе лежат истины Священного Писания, опыт литургии, согласие отцов Церкви, свидетельства святых и учительский авторитет Церкви. Это учение, замечает Гарсиа Аумада, имеет большее влияние на людей верующих, подготовленных к восприятию лежащих в его основе религиозных принципов 43 , однако рассчитано не только на руководство церковным (шире — христианским) образованием, но и на осмысление с теологической позиции всей проблематики образования как социального института.
Еще одним примером может послужить подход лютеранского богослова П. Тиллиха. В своей работе «Теология культуры» он говорит о религиозной составляющей во многих конкретных областях культурной деятельности человека, даже если религия в них «не присутствует напрямую», а во 2-й части книги, которая называется «Конкретные приложения», помещает специальный раздел «Теология образования». По мнению Тиллиха, цель образования — реализация человеком своих возможностей (как трансцендентальных, так и индивидуальных); образовательный процесс нацелен на формирование гуманистической лич- ности, что включает в себя не только навыки, которые дает общее образование, но и «религиозную функцию»44. Заметим, что, по нашему мнению, этот сдержанный подход, данный с позиций традиционного лютеранства, занимавшего определенную социальную нишу в западном обществе середины ХХ в., адекватно отражает соответствующий этап развития теологического мышления в его попытках описать характер взаимосвязей религии и образования. Сейчас, однако, требуется адаптация упомянутого подхода к новой реальности, а применительно к нашей области — встает задача системной, всесторонней православной богословской рефлексии проблем образования.
Отметим, что развитие западной теологической мысли 2-й половины — конца ХХ столетия позволило сосредоточить внимание на проблемах и внутренних конфликтах в образовательной сфере, а также на оценках либеральных педагогических идей в целом. В фокусе внимания этих исследований оказались концепции образования, которые направлены, по большому счету, не на воспитание человека новейшей («секулярной», «либеральной», «гуманистической») эпохи, а на включение новых поколений в глобальные процессы массового производства и массового потребления, которые характеризуют индустриальное общество, с учетом развитости отдельных сегментов мира (Соединенным Штатам— одно, «Старой» Европе — другое, Центральной Африке — третье и т.д.). Ситуация перехода к постиндустриальному обществу, опять-таки, с учетом того, какому «уровню цивилизованности» принадлежит та или иная страна, лишь уточнила требования к объектам образовательной деятельности: они должны быть уже не только лояльными потребителями, но и квалифицированными пользователями продуктов (включая продукты информационные), в производство и потребление которых они же сами и вовлечены.
Попытки частично противостоять этим тенденциям, а частично адаптировать теологию к новой социальной среде, породили разнообразные дискуссии, в которых анализируются и классифицируются различные подходы к образованию, месту в них теологического образования и теологической методологии 45 .
Согласно американскому теологу Д. Келси 46 , существует оппозиция двух подходов, классического («Афины») и профессионального («Берлин») 47 . Классический подход, рожденный античным полисом, имел «коммунальный контекст», его ориентиром было личное совершенствование ради общественного блага, а не в частных интересах. (Здесь и далее приведенные рассуждения Келси вряд ли можно считать глубоко оригинальными, но они верно описывают тенденции взаимодействия теологии и образования и важны в контексте дискуссии в протестантских теологических кругах США). Древняя Церковь приняла этот подход не только потому, что он являлся культурной доминантой, но потому, что духовно гармонировал с задачами церковного просвещения: задача духовного возрождения человека ставила акценты на святости, воспитании добродетелей. Священное Писание заняло место языческой философии, а развитие святоотеческой богословской традиции включило в образовательный контекст и Предание, обеспечив преемственность развития античной школы и последовавшей далее схоластической традиции 48 . Отсюда, добавим мы, спустя столетия наряду с осознанием общности источников, появилось уважительное схоластическое отношение к авторам и авторству, строгость цитирования, научность и, собственно, становление школы.
В отличие от антично-средневековой модели, порожденная прусской реформой образования «берлинская» модель университета не только упразднила нормотворческую ценностно-мировоззренческую функцию теологии в образовании, но заставила саму теологию искать свое место в светском вузе, который предполагал подготовку специалистов-ученых в естественных и социогумани-тарных науках, овладевающих теорией и умеющих применять ее для решения практических проблем. Эти процессы, по Келси, кстати, послужили причиной того, что богословское образование сосредоточилось на воспроизводстве духовенства как сословия, а не на духовном становлении личности, что повлекло за собой сужение проблематики до собственно богословия, библейской экзегетики и патрологии49.
По мнению английского теолога образования М. Хигтона 50 (который пишет, что рождение ведущих университетов Европы в XII–XIII вв. означало не борьбу за свободу от Церкви, то есть начало секуляризации, а новую форму христианского благочестия 51 ), кризис современной системы образования рождает необходимость нового осмысления места в ней университета с теологических позиций.
Вывод, который можно сделать из выполненного нами обзора западной теолого-педагогической мысли, в общем, не внушает оптимизма. В основном, теология замкнута на решение проблем христианского образования, в то время как педагогические науки, включая теорию образования, следующие требованиям социального заказа, сужают ценностно-мировоззренческое ядро, сводя его, если говорить предельно кратко, к принципам толерантности и свободы от традиции, а общее содержание образования, за некоторыми «элитарными исключениями», к базовым запросам массовой культуры. И такая педагогика в определенной мере отражает не только экономическую и социальную ситуацию постиндустриального общества, но и интеллектуальную среду постмодерна — мы имеем в виду состояние современной культуры (в том числе, той же массовой культуры), включающее в себя «художественные композиции» постнеклассических философских и культурологических идей.
В то же время, практически все специалисты (от академиков РАО до профессоров американских теологических колледжей), описывающие — либо как единственно верные, либо как альтернативные религиозным — секулярист-ские подходы в педагогической сфере социальной жизни, иллюстрируют своими описаниями ситуацию ценностного кризиса, показывают, что новоевропейская (просвещенческая, секулярная, либеральная) образовательная парадигма, у которой, если вспомнить Келси, были приличные, «берлинские», гумбольдтовские корни, давно находится в стадии нарастания системных противоречий и углубления внутренних проблем.
Завершив краткое обозрение теологических «видов» на панораму пара-дигмальных изменений в образовании, обратимся еще к одному, который открывается с позиций постсекуляристской концепции. Обоснование этой концепции мы находим в относительно недавних работах Ю. Хабермаса по богословию и социальной теории 52 , в которых он указывает на явную неспособность постмодернистских обществ создавать свои собственные ценности взамен иудео-христианского источника общественной морали и индивидуальной этики. Мысли Хабермаса о том, что логика развития цивилизации предполагает прекращение «марша к светскости», и секулярное мировосприятие — если оно не отрицает демократию — должно постепенно открываться влиянию верующих, позволяют нам обратиться наконец к вопросу, который обозначен в начале статьи: возможен ли современный православный проект богословия образования в контексте развития богословия и с учетом проблем современного отечественного и мирового образования?
Если мы не отказываем России в принадлежности к постсекулярному миру (напомним, что в своих «Заметках о постсекулярном обществе» Хабермас в основном распространяет эту привилегию на США, «Старую» Европу и неевропейский англо-саксонский мир) 53 и полагаем, что описываемые в терминах постсекуляризма процессы распространяются и на нашу действительность, вопросы развития православного богословия образования приобретают вполне отчетливый и весьма актуальный характер.
В начале этой работы мы говорили о современном понимании предметной сферы теологии, о том, что ее неправильно было бы сводить лишь к сумме библейской и святоотеческо-схоластической «богословской классики». Разумеется, эта система, ядро которой обретено через полноту Откровения и теологический дискурс, нуждается не в дальнейшем догматическом развитии, но лишь «в постоянном уходе». Последний вполне обеспечивается внутрисистемными богословскими спорами терминологического или герменевтического характера54. Кропотливую богословско-исследовательскую работу вокруг указанного ядра, вместе с самим ядром, и можно, вновь используя термин Лонергана, описать как «постоянное свершение»; в то же время, расширение тематическое (человеческая реальность в ее социальном воплощении) и методологическое (распространение богословских методов на внетеологическую сферу) позволяет учитывать одновременно оба лонергановских измерения теологии — классическое и динамическое — в осмысление культуры в целом и интересующего нас образования в частности.
Важно при этом напомнить, что отличие теологической методологии от методологий различных наук при изучении одних и тех же областей исследования, в данном случае образования, состоит в использовании аксиоматики веры и богословской догматики в качестве мировоззренческой, ценностной и методологической базы исследования.
То, что мы сказали выше о вполне проработанной за рубежом и у нас точке зрения, согласно которой, расширение сферы применения богословской методологии к человеку, социуму, природе представляет собой не попытки цепляться за «мифологическое», «метафизическое», «противостоящее науке» мировоззрение, а естественное движение богословской мысли, исследовательской и оценочной, адекватное ситуации и проблемам времени, подтверждает возможность и необходимость развития современной отрасли церковной науки — богословия, или теологии, образования. При этом мы должны отдавать себе отчет: ситуация непростая, поскольку богословие во всех случаях, работая как во внутреннем, собственно теологическом, проблемном поле, так и во «внешнем пространстве», призвано сохранять «центрованную понятийную структуру», причем этот центр находится или действенно представлен внутри самой структуры; распад структуры привел бы к распаду теологии как системы и лишил бы последнюю всякого смысла 55 .
В качестве вывода отметим, что исключение богословской позиции из осмысления проблем образования, как не имеющей исторического, актуального или прогностического значения, в буквальном смысле обесценивает (лишает религиозно-культурных ценностных оснований) образование как социальный феномен и лишает педагогическую теорию одного ключевых способов научного обеспечения.
Поскольку мы понимаем под образованием универсальное условие воспроизводства и развития культуры, совокупность способов становления человека, синтез обучения, воспитания и просвещения, интеллектуального, культурно- го и духовного формирования человеческого «Я», в том числе, через открытие в душе человека образа Бога, то есть преображения человека, мы старались показать в этой статье, что богословская позиция в исследовании проблем образования должна быть, как минимум, профессионально и адекватно времени представленной среди педагогических, культурологических философских и иных теорий, а как максимум, выполнить свое ценностно-мировоззренческое предназначение в процессе формирования новой образовательной парадигмы.
И если в контексте нашего поиска было отмечено, что опасным в этой кризисно-переходной ситуации является разрыв между педагогикой и классической философией (в ее функции глобального проектировщика образования), то разумно предположить, что еще большей угрозой для существования цивили-зации 56 стал бы наш отказ от богословия образования как от одной из областей современной богословской мысли.
Список литературы Богословие образования: контекстный поиск
- Антонов К.М. Теология как научная специальность//Вопросы философии. 2012. № 6. С. 73-84.
- Архипова О.В. Идея образования в контексте постнеклассической культуры. Автореф. дис. … докт.филос. наук. СПб., 2012. 52 c.
- Асмолов А.Г. Образование как ценностное полагание: диалог между педагогикой сотрудничества и культурно-исторической психологией//Образование в XXI веке: стратегии и приоритеты/Свято-Филаретовский православно-христианский институт. М., 2011. 360 c.
- Вдовина Г.В. Естественная теология в схоластике Средневековья и раннего Нового времени//Философия религии. Альманах. 2006-2007/под. ред. В.К.Шохина. М.: Наука, 2007.
- Вдовина Г.В. Бернард Лонерган: метод в теологии и гуманитарные науки//Философский журнал. 2013. № 2 (11). С. 5-18.
- Заборская М.Г. Философия образования: типологический подход. СПб.: Д.А.Р.К., 2011.
- Колесников А.С. Paideia в эпоху постпросвещения//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение. 2013. Вып. 3. С. 3-11.
- Куренной В. Философия и образование//Отечественные записки. 2002. № 1. С. 59-73.
- Лихачев Д.С. О национальном характере русских//Вопросы философии. 1990. № 4. С. 3-6.
- Лонерган Б. Метод в теологии/Институт философии, теологии и истории св. Фомы. М., 2010. 400 с.
- Лукацкий М.А. Философия образования: история становления и болезни роста//Образование и общество. 2004. № 2. С. 76-80.
- Никандров Н.Д. Ценности как основа целей воспитания//Педагогика. 1998. № 3. С. 8-12.
- Новиков А.М. О структуре теории образования//Педагогика. 2005. № 7. C. 30-36.
- Новиков А.М. Постиндустриальное образование. М.: Эгвес, 2008. 136 с.
- Огурцов А.П., Платонов В.В. Образы образования. Западная философия образования. ХХ век. СПб.: Изд-во РХГА, 2004. 520 с.
- Прилуцкий А.М. Дискурс теологии. СПб.: Светоч, 2006. 304 c.
- Ранер К. Основание веры. Введение в христианское богословие/Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. М., 2006. 662 с.
- Романенко И.Б. Образовательные парадигмы в истории философии. Автореф. дис. … докт. филос. наук. СПб., 2003.
- Романенко И.Б. Экзистенциализм и персонализм: определение образовательных идеалов XXI века//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2005. № 5 (10). С. 59-65.
- Романенко И.Б., Романенко Ю.М. Становление рационально-экс\-пе\-ри\-мен\-тальной образовательной парадигмы в немецкой классической философии//Вестник Иркутского государственного технического университета. 2014. № 4 (87). С. 274-281.
- Сенько Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. 365 с.
- Хоружий С.С. Исследования по исихастской традиции: в 2 т. СПб.: Изд-во РХГА, 2012. Т. 2. 446 с.
- Хромец И.С. Проблема соотношения философии религии и теологии в антропологическом учении Карла Ранера//Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2011. №15 (77). (Серия: Философия. Социология). С. 162-171.
- Тиллих П. Теология культуры. М.: Юрист, 1995. 480 с.
- Турбовский Я.С. Миру образования -свою философию//Образование и общество. 2003. № 2. С. 19-36.
- Шмонин Д.В. Схоластическая образовательная парадигма в контексте исторических форм трансляции знания: к постановке проблемы//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтология. Культурология. Религиоведение. 2013. Вып. 2. С. 32-37.
- Шмонин Д.В. Религиозное образование и образовательные парадигмы//Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. Вып. 2. C. 47-64.
- Шор Ю.М., Архипова О.В. Идея образования в контексте постнеклассической парадигмы//Мир культуры и культурология. Альманах Научно-культурологического общества России. Вып 3. СПб: Изд-во РХГА, 2013. 414 c.
- Banks R. Reenvisioning Theological Education: Exploring a Missional Alternative to Current Models. Grand Rapids: Eerdmans, 1999.
- Boudon R. What Middle-Range Theories Are//Contemporary Sociology/American Sociological Association. Vol. 20 (4). P. 519-522.
- Edgar B. The Theology of Theological Education//Evangelical Review of Theology. 2005. Vol. 29. № 3. P. 208-217.
- García Ahumada E. Teología de la Educación, Santiago: Editorial Tiberíades, 2003. 534 pp.
- García Ahumada E. Los cristianos en la historia de la educación. En 4 vols. Santiago de Chile: Tiberíades, 2007.
- García Ahumada E. Saint Jean-Baptiste de La Salle et la théologie de l'éducation. Rome: Frères des Écoles Chrétiennes, 2013. P. 4.
- García Quadrado J.A. Antropología filosófica. Una introducción a la Filosofía del Hombre. Quinta edición. Pamplona: EUNSA, 2010. 258 pp.
- Gil García A. Naturaleza y finalidad de la educación cristiana a la luz de la encíclica Divini Illius Magistri//Excerpta e dissertationibus in Sacra Theologia. 1986. Vol.10. P. 487-588.
- Groppo G. Teologia dell'educazione: origine, identità, compiti. Roma: Librería Ateneo Salesiano, 1991.
- Habermas J. Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002.
- Habermas J. On the Relation between the Secular Liberal State and Religion//The Frankfurt School on Religion: Key Writings by the Major Thinkers. New York: Routledge, 2005. P. 339-348.
- Habermas J. Notes on a Post-secular Society//Signandsight.com. URL:http://www.signandsight.com/features/1714.html (дата обновления: 18.06.2008, дата обращения: 23.11.2013).
- Higton M. A Theology of Higher Education. New York: Oxford University Press, 2012. 296 p.
- Hull J.M. Christian Theology and Educational Theory: Can There Be Connections?//British Journal of Educational Studies. Vol. XXIV. June 1976. P. 127-143.
- Kelsey D.H. Between Athens and Berlin: the Theological Debate. Grand Rapids: Eerdmans, 1993.
- Manifesto on the Renewal of Evangelical Theological Education/World Evangelical Alliance International Council for Evangelical Theological Education, 2nd edition, 1990 (URL: http://icete-edu.org/manifesto/, дата обращения: 15.06.2014).
- Silva L., da. Linhas fundamentais para uma teologia da educação//Revista Eclesiastica Brasileira. 1950. P. 352-369.