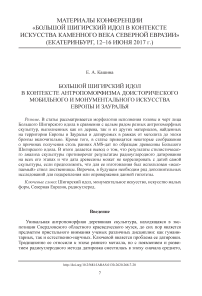Большой Шигирский идол в контексте антропоморфизма доисторического мобильного и монументального искусства Европы и Зауралья
Автор: Кашина Е. А.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 266, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается морфология исполнения головы и черт лица Большого Шигирского идола в сравнении с целым рядом резных антропоморфных скульптур, выполненных как из дерева, так и из других материалов, найденных на территории Европы и Зауралья и датируемых в рамках от мезолита до эпохи бронзы включительно. Кроме того, в статье приводятся некоторые соображения о причинах получения столь ранних AMS-дат по образцам древесины Большого Шигирского идола. В итоге делается вывод о том, что результаты стилистического анализа скульптуры противоречат результатам радиоуглеродного датирования на всех его этапах и что дата древесины может не коррелировать с датой самой скульптуры, если предположить, что для ее изготовления был использован «ископаемый» ствол лиственницы. Впрочем, в будущем необходим ряд дополнительных исследований для подкрепления или опровержения данной гипотезы.
Шигирский идол, монументальное искусство, искусство малых форм, северная евразия, радиоуглерод
Короткий адрес: https://sciup.org/143179087
IDR: 143179087 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.7-20
Текст научной статьи Большой Шигирский идол в контексте антропоморфизма доисторического мобильного и монументального искусства Европы и Зауралья
Уникальная антропоморфная деревянная скульптура, находящаяся в экспозиции Свердловского областного краеведческого музея, до сих пор является предметом пристального внимания ученых различных дисциплин: как гуманитарных, так и естественно-научных. Ключевой является проблема ее датировки. Традиционно ее относили к эпохе раннего металла, но с появлением и развитием радиоуглеродного метода датировка сместилась в эпоху сначала среднего, http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.266.7-20
а затем и раннего мезолита. Серия AMS-дат, полученная по древесным кольцам Большого Шигирского идола, имеет временной диапазон в три тысячи лет, причем последовательность древесных колец у данного ствола охватывает не более 160 лет ( Жилин и др ., 2016; Zhilin et al ., 2018; Terberger et al ., 2021). Большой Шигирский идол имеет неясный археологический контекст и фактически является случайной находкой. Информация о топографии и условиях находки была опубликована многократно (см. библиографию: Савченко, Жилин , 2004; Чаир-кина , 2013; 2021). С Шигирского торфяника происходит масса случайных находок, относящихся к эпохам от мезолита до раннего железного века. Это костяные и роговые орудия, деревянные предметы, металлические изделия. Если при типологическом датировании металлических изделий и некоторых групп костяных изделий у нас есть более уверенные выводы по хронологии, то абсолютные даты, полученные в последние годы для Большого Шигирского идола, с моей точки зрения, сильно противоречат ряду типологических наблюдений о путях развития антропоморфной скульптуры лесной зоны Северной Евразии.
В данной статье предпринята попытка доказать необходимость пересмотра ранней датировки Большого Шигирского идола, опираясь на данные морфологического анализа всех имеющихся на сегодня материалов резной и, прежде всего, деревянной антропоморфной скульптуры (как мобильной, так и монументальной) эпох мезолита, неолита и бронзового века на обширных территориях зоны умеренного климата Европы и Зауралья. Особое внимание будет уделено стилистическим закономерностям оформления лиц скульптур и их корреляции с хронологическими данными об этих находках. Данный подход намеренно не будет включать в себя анализ абстрактных орнаментов на поверхности Большого Шигирского идола. К этой проблематике исследователи обращались уже неоднократно в последние годы ( Дэвлет , 2018; Koksharov , 2021). Также будет затронута проблема анализа сырьевого и ситуативного контекста Большого Шигирского идола.
Археологический контекст идола
Скульптура была обнаружена случайно в одном из разрезов на Втором Курьинском прииске в 1880 г. на северо-восточном берегу Шигирского озера на глубине 4 м якобы вместе с тремя деревянными ложками (одна – с головой водоплавающей птицы), двумя каменными орудиями и веслом. Данная информация цитируется по монографии В. И. Мошинской (1976. С. 82), где она, в свою очередь, ссылается на более ранние источники. Тот самый ковш с головой водоплавающей птицы сама В. И. Мошинская связывала топологически с предметами искусства малых форм из коллекции Усть-Полуя (Там же). Весла шигир-ской коллекции по формам очень похожи на серию, полученную в результате раскопок различных торфяниковых памятников Среднего Зауралья. Данные, полученные недавно в результате изучения этих коллекций, позволяют рассматривать датировку этих весел в рамках эпох энеолита и ранней бронзы ( Кашина, Чаиркина , 2016; 2017; Chairkina et al ., 2017). Ряд ковшей с головой птицы также может быть отнесен к этой эпохе ( Эдинг , 1940; Мошинская , 1976; Кашина,
Чаиркина , 2011; Chairkina et al ., 2017). Таким образом, можно полагать, что в одном контексте с идолом находились сопутствующие ему предметы эпохи энеолита и бронзы. Однако эти данные, в силу случайного характера находок, никак нельзя считать достаточно надежными. Полагаться на их датировку и проводить по ней аналогию с датировкой Большого Шигирского идола тоже, безусловно, нельзя.
Антропоморфные образы европейской резной скульптуры
Вся имеющаяся историография (до появления первых радиоуглеродных дат по идолу) содержит сведения о том, что данная деревянная скульптура, как и ряд других, найденных в Среднем Зауралье, относится к эпохе не ранее бронзового века (см. список литературы: Bobrov , 2021). Чтобы проверить это предположение, необходимо разобраться, какое представление имеется в данный момент относительно развития антропоморфного образа в эпохи мезолита – неолита – энеолита – бронзы в лесной зоне Европы и Зауралья, причем на основании как археологических, так и естественно-научных данных (имеются в виду, прежде всего, радиоуглеродные датировки).
Роговая скульптура из погр. № 23 могильника на Южном Оленьем острове (Карелия) и случайная находка из р. Пярну (Эстония) обнаруживают несомненное типологическое сходство – по сырью (рог лося), по размерам, по сложному оформлению лица, по безрукости, по предполагаемой изображенной маске на лицах обоих персонажей. Датировка обеих скульптур – в районе 6000 cal BC ( Jonuks , 2021). По манере изображения лица им близка миниатюрная скульптура со стоянки Бесов Нос VI (Южная Карелия): она обожжена, фрагментирована и, по мнению автора раскопок Н. В. Лобановой, относится к финалу мезолита: данный вывод основан на типологических наблюдениях над кремневым материалом и по факту отсутствия на стоянке культурных отложений и материалов эпохи неолита и иных эпох ( Лобанова , 1995).
Что касается деревянной скульптуры эпохи мезолита, то единственный известный предмет – это миниатюрная скульптура из Нидерландов, случайная находка высотой около 12 см с датой 5400 cal BC. На плоской поверхности вырезаны углублениями глаза и рот, туловище показано схематично ( Van Es, Casparie , 1969). На остальной территории всей Северной Евразии к мезолиту больше не было отнесено ни одной антропоморфной скульптуры, кроме Большого Ши-гирского идола, причем только с появлением серии радиоуглеродных дат, полученных по его образцам.
К раннему неолиту относятся скульптуры из рога и кости с оз. Лача на юге Архангельской области (стоянки Кубенино и Веретье) ( Фосс , 1952). Все три объединяет «подковообразная» манера оформления черт лица: пространство глазниц, щек и рта показано единой углубленной выемкой. AMS-дата погребения 2 на стоянке Кубенино, где была найдена антропоморфная скульптура из рога (рис. 1: 1 ), сделанная по кости лося, – около 5000 cal BC ( Kashina et al ., 2021). Похожая манера исполнения черт лица встречается еще у нескольких скульптур из разных пунктов Русской равнины (Литва, Латвия, Ивановская обл.), все они,

Рис. 1. «Подковообразная» ( 1, 2 ) и «двухуровневая» ( 3, 4 ) манера исполнения лица в резной скульптуре (не в масштабе). Фото Е. А. Кашиной
1 - Кубенино (Архангельская обл.); 2 - Сахтыш 11а (Ивановская обл.); 3 - Запорожское (Ленинградская обл., Национальное бюро древностей (Хельсинки, Финляндия)); 4 – Таму-ла 1 (Эстония, AI 4118:945)
предположительно, датируются в рамках рубежа V–IV тыс. до н. э. – середины III тыс. до н. э. Одна из них – подвеска из погребения 58 на стоянке Сахтыш IIа (Ивановская обл.) (рис. 1: 2 ).
К этому же временному промежутку относится довольно широкая серия резных скульптур-подвесок и вероятных наверший орудий, выполненных в иной, назовем ее «двухуровневой», манере передачи человеческого лица, когда нос и лоб образуют одну плоскость, а щеки и низ лица – другую, параллельную, но нижележащую плоскость (рис. 1: 3, 4 ). Эти находки расположены вдоль балтийского побережья (от Литвы до южной Финляндии) и сделаны из кости, рога и янтаря («клад» из Йодкранте, поселения Кретуонас 1, Ича, Лагажа, Тамула 1, случайная находка из Запорожского, могильники Звейниеки и Куккаркоски) ( Кашина , 2009). Часть материалов может относиться скорее к концу IV тыс. до н. э., а некоторые – даже к III тыс. до н. э. ( Girininkas, Daugnora , 2016).
Именно в этой «двухуровневой» манере выполнены также лица двух уникальных монументальных деревянных скульптур в виде головы на длинном столбе. Скульптура с поселения Сарнате (Латвия), найденная в культурном слое в 1959 г., длиной 168 см, была вырезана из лиственного дерева, перевернутого комлевой частью вверх, там сохранилась неснятая древесная кора. Лицо находилось ниже комля на 40 см и имело длину 14 см. Область ног, расположенная на более узком конце ствола, показана лишь двумя зарубками, отделяющими ее от туловища. Предмет был найден среди других обломков дерева (Ванки-на, 1970) (рис. 2: 1). Скульптура с поселения Швентойи 2б (Литва), найденная в 1969 г., длиной 195 см, была вырезана из черной ольхи. Остатки неснятой коры видны ниже шеи скульптуры. Голова и шея вместе имеют длину 32 см, ниже никаких деталей не изображено. Скульптура была найдена на дне прибрежной полосы лагуны в стороне от остальных находок (Rimantiene, 2005) (рис. 2: 2). Обе скульптуры могут датироваться в рамках IV – начала III тыс. до н. э. Абсолютных дат по древесине самих скульптур не имеется.
Наконец, следует упомянуть весьма любопытную и уникальную находку из центра Русской равнины – роговую маску для лица из ямы-святилища на стоянке Сахтыш IIa (Ивановская обл.), которая имеет дату по нижележащему углю около 3500 cal BC. Она реалистично передает лоб и нос человека, по бокам расположено по два сквозных отверстия для крепления. Длина изделия – 20,5 см, ширина – 15,5 см. На лбу находилась преднамеренная округлая пробоина и разнонаправленные глубокие царапины поверх тщательно полированной поверхности (рис. 3). Не будем касаться реконструкции ритуала ее захоронения на стоянке, на эту тему есть отдельная публикация ( Костылева, Уткин , 2021), отметим только, что сахтышская маска, рассматриваемая в контексте резных антропоморфных образов, отражает собой неслучайность, важность и смысловую значимость «двухуровневого» приема передачи лица человека. Будучи надетой на голову, она материально демонстрирует человеческое лицо в рамках двухуровневой схемы. Спекулятивно можно предполагать, что это – лицо человека, представленное в рамках схемы бинарной оппозиции верха и низа (лоб и нос – против щек и подбородка); подобным приемом могли подчеркивать глубокие тени, лежащие на лице, имея в виду изображаемое «лицо в темноте», может быть, лицо мертвого, лицо предка.

1 2
Рис. 2. Неолитические монументальные скульптуры Восточной Балтии (не в масштабе). Фото Е. А. Кашиной
1 – Сарнате (Латвия); 2 – Швентойи 2б (Литва) (по: Ванкина , 1970; Rimantiene , 2005)

Рис. 3. Ритуальная роговая маска, Сахтыш IIа (Ивановская обл., Тейковский район). Фото А. Мацане
Антропоморфные образы зауральской резной скульптуры
Что касается эпох неолита и бронзы Зауралья, то среди деревянных скульптур, подчеркиваю, малых форм к ним могут относиться всего три предмета. Это фрагмент резной головы со стоянки Разбойничий Остров (высотой около 4 см) и два предмета из Шигирской коллекции случайных находок: резное изображение головы с туловищем, имеющим сквозную прорезь (высотой около 10 см), возможно, деталь какого-то орудия неизвестного назначения (Чаиркина, 2014), а также так называемый Малый Шигирский идол – скульптура головы с шеей и утраченными рогами (высотой около 20 см), вероятно, часть полнофигурной скульптуры или, может быть, жезла. Фрагмент скульптуры со стоянки Разбойничий Остров с «двухуровневой» манерой исполнения лица, по мнению автора раскопок Н. М. Чаиркиной, относится к энеолиту, исходя из археологического контекста (Чаиркина, 2005. С. 257; 2014). Остальные два предмета – случайные находки, которые неоднократно рассматривались в литературе и были отнесены к финалу каменного века или к более поздним эпохам (Эдинг, 1940; Мошинская, 1976). У первого глаза и рот вырезаны на относительно гладкой поверхности лица, у второго (Малого Шигирского идола) – лицо выполнено близко к «двухуровневой» манере, однако переносица показана вдавленной до уровня глазниц, а также имеется много других хорошо проработанных деталей (волосы, рот, насечки на подбородке, рога). Наблюдается даже некоторое поверхностное сходство черт лица Малого Шигирского идола и небольшой каменной скульптуры, найденной на р. Туй, бассейн р. Иртыш (Мошинская, 1976. С. 52) – тоже случайной находки, которую не относят к каменному веку. Несмотря на все предположения, однозначно ответить на вопрос о датировке обоих деревянных предметов без осуществления прямого датирования невозможно.
Промежуточное положение между монументальной и мобильной скульптурой занимает деревянный идол из Шигирской коллекции барона де Бая, длиной 43 см, с, несомненно, «двухуровневой» манерой исполнения черт лица, отнесенный исследователями к эпохе металла ( Савченко, Ромэн , 2011).
Четыре деревянные скульптуры Горбуновского торфяника (здесь имеются в виду только те экземпляры, у которых сохранилось лицо) демонстрируют явную «двухуровневую» манеру оформления лица. Одна хранится и выставляется в музее г. Нижний Тагил, высота ее 125 см. Три скульптуры, хранящиеся в ГИМ, составляют в высоту 40 см (голова), 123 см и 166 см. Последняя имеет два лица, обращенные друг к другу подбородками ( Чаиркина , 2014). У двух столбообразных монументальных скульптур Горбуновского торфяника были взяты образцы на радиоуглеродное датирование AMS-методом AMS, но они пока не обработаны. В настоящее время исследователи предполагают датировку этой серии скульптур в рамках энеолита – эпохи бронзы ( Гаджиева , 2004; Чаиркина , 2014).
Доисторическая монументальная деревянная скульптура в Европе и Зауралье
Немалое количество монументальных скульптур эпохи бронзы и раннего железа известно в Западной и Северной Европе. Случайная находка из Похьян-куру (Финляндия), фрагмент скульптуры высотой около 25 см, представляющий собой голову, шею и столбообразное продолжение плеч, считался раньше принадлежащим к эпохе каменного века ( Leppäaho , 1937). Находка была реставрирована парафином, и из-за этого проведение ее непосредственного датирования представляется финским коллегам нецелесообразным. Согласно их мнению, скульптура может иметь дату моложе IV тыс. до н. э. (автор благодарит проф. Ю.-П. Таавитсайнена (Университет Турку, Финляндия) за предоставленное устное сообщение).
В Европе и Скандинавии все известные на данный момент находки монументальной деревянной скульптуры надежно датируются по археологическим и естественно-научным данным не ранее IV тыс. до н. э., большинство из них – не ранее рубежа IV–III тыс. до н. э. Они относятся к культурам оседлых охотников-рыболовов и культурам с производящим хозяйством. Подобные скульптуры доживают в Европе и до раннего железного века, и до раннего Средневековья. Некоторые были связаны с так называемыми болотными святилищами ( Capelle , 1995; Müller-Wille , 1999; Steuer , 2006). Н. М. Чаиркина склонна интерпретировать серию деревянных антропоморфных скульптур Зауралья как изображения предков и духов в условиях активнейших поисков и новаций энеолита ( Чаир-кина , 2005. С. 260, 261). Представляется, что потребность в монументальных деревянных антропоморфных скульптурах могла возникнуть именно у оседлого

Рис. 4. Профильный вид (не в масштабе)
1 – Большой Шигирский идол; 2 – Малый Шигирский идол; 3 – Горбуновский идол
1 – фото Т. Тербергер для artquide.com; 2, 3 – фото Е. А. Кашина населения. Столбообразная скульптура могла символизировать некую ландшафтную константу на территории стационарного поселения или около стационарного жилища (как, возможно, было в Сарнате, Швентойи 2б и на Горбу-новском торфянике). По мнению некоторых западных ученых, монументальные изваяния входят как один из признаков в так называемый «горизонт инноваций» IV тыс. до н. э. Подразумевается, что их появление могло быть связано только со значительными изменениями жизненного и хозяйственного уклада населения и, соответственно, произойти не ранее определенного хронологического рубежа (Robb, 2009; Райнхольд, 2018).
Таким образом, на представительных материалах мобильного искусства мезолита – неолита – энеолита Русской равнины мы можем наблюдать некую стилистическую эволюцию манеры изображения человеческого лица. «Двухуровневая» манера является самой поздней и появляется не ранее IV тыс. до н. э. Она чрезвычайно выразительна с эстетической точки зрения, поэтому неслучайно, что она проходит через тысячелетия, сохраняясь в сибирских традиционных культурах вплоть до современности ( Bobrov , 2021).
Лицо Большого Шигирского идола выполнено в «двухуровневой» манере, отчасти близкой той, которую мы наблюдаем на Русской равнине в IV – начале III тыс. до н. э., однако переносица его сильно углублена. Идол типологически близок к остальной деревянной скульптуре Шигирского и Горбуновского торфяников, это неоднократно отмечали самые разные исследователи (Эдинг, 1940; Мошинская, 1976; Чаиркина, 2013). Зауральские скульптуры объединяет (как между собой, так и с восточно-балтийскими и финской скульптурами) «столбо-образность» и «двухуровневая» манера оформления черт лица: особенно хорошо она выражена не столько у «основной» головы идола, сколько у целого ряда рельефных резных «личин», расположенных на передней и задней сторонах Большого Шигирского идола (Савченко, Жилин, 2004). Тем не менее все известные деревянные скульптуры Зауралья, так или иначе, отличаются друг от друга. Можно отметить, что для большинства «двухуровневых» лиц деревянной скульптуры характерна параллельность линии носа и нижней части лица при обзоре в профиль, однако у Большого Шигирского идола, Малого Шигирского идола и Горбуновского идола с ногами (Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал») эти линии не параллельны, а расположены несколько под углом. Очевидным является сходство силуэта в профиль у голов этих скульптур и сходство самих форм голов, имеющих «полуяйцевидную» форму (рис. 4). При этом остальные их детали – довольно различны.
Дискуссия
В финале эпохи камня – начале эпохи бронзы между лесной зоной Русской равнины и лесной зоной Уральского региона наблюдается много общих черт в искусстве малых форм: это штампованные изображения птиц на тулове и головки на венчике сосудов, мелкая пластика из глины, ковши и рукоятки весел с головами птиц, возможно, даже кремневая скульптура. Монументальные деревянные идолы тоже могут рассматриваться как одна из черт этого сходства. Были ли связи между этими двумя территориями, и если были, то какого характера? Прямые контакты или опосредованные, или же вообще имело место конвергентное возникновение сходных форм искусства?
Некоторые находки свидетельствуют о контактах между населением Урала и Русской равнины. Округлые подвески из серпентина (несомненно, уральского происхождения) были найдены на поселениях и в погребениях волосовской культуры в Поочье и Верхневолжье (IV тыс. до н. э.) ( Костылева, Уткин , 2010. С. 249). Непосредственные связи населения Зауралья с населением на территории современной Республики Коми в эпоху раннего металла происходили через Северный Урал ( Косинская , 2000). Так как предметов искусства в лесном Зауралье найдено гораздо меньше, чем в лесной зоне Русской равнины, и часто возникают проблемы с их датированием, а также между первыми и вторыми существует значительная территориальная лакуна (область, где предметов искусства не найдено вообще), то пока невозможно ответить на вопрос о прямых или опосредованных контактах.
Основная проблема, с которой сталкиваются исследователи при изучении предметов искусства, найденных случайно или в неясном археологическом контексте, это отсутствие четких археологических данных, на основании которых можно было бы построить доказательства. Поэтому желанным исследовательским инструментом становится применение радиоуглеродного AMS-датирования, которое далеко не всегда возможно осуществить – как по финансовым причинам, так и по причине того, что уникальные предметы обычно выставляются в музее и любое их повреждение стараются исключить. Провести датирование корректно тоже удается не всегда – по множеству причин, связанных с самим физическим методом (Höflmayer, 2016). Серия AMS-дат, полученная по древесным кольцам Большого Шигирского идола, имеет чрезвычайно широкий временной диапазон (Zhilin et al., 2018). Это может быть связано с загрязнениями древесины в процессе музейных консерваций.
Одно из возможных и наиболее простых объяснений получения мезолитических абсолютных дат для Большого Шигирского идола – это изготовление скульптуры в более позднюю эпоху из древнего ствола лиственницы, поднятого из торфяника или со дна озера. Древесина лиственницы не затвердевает со временем в подобных условиях, в отличие от древесины дуба (автор благодарит В. В. Мацковского (Институт географии РАН) за предоставленное устное сооб-щение)1. Известны хорошо обоснованные случаи использования ископаемого дерева для производства, в частности, сосудов из тиса на территории современной Румынии ( Kozłowski et al ., 2015). На основании ряда полевых исследований, прослойка торфа в Шигирском озере, способная покрыть и законсервировать столь крупный деревянный объект, могла сформироваться не ранее рубежа бореального и атлантического периода (поздний мезолит), а возможно, и в более позднее время, на рубеже атлантического и суббореального периода (финал каменного века) ( Чаиркина , 2021). Таким образом, все перечисленные данные позволяют оспаривать имеющиеся радиоуглеродные датировки Большого Ши-гирского идола.
Заключение
Таким образом, культурно-исторический контекст всех известных на сегодня в Европе и Зауралье деревянных монументальных скульптур вступает в противоречие с новейшими данными по абсолютной датировке Большого Шигирского идола, и в причинах этого еще предстоит разобраться. Стилистический анализ, сравнение антропоморфных изображений (головы и т. н. «личин») Большого Шигирского идола с многочисленными образцами мобильной и монументальной европейской и зауральской скульптуры позволяет датировать его временем не ранее финала каменного века. Перспектива дальнейших исследований связана с получением и анализом абсолютных дат по другим деревянным скульптурам Зауралья (например, по скульптурам из Горбуново, хранящимся в Москве и Нижнем Тагиле), а также, возможно, с будущими находками монументальных скульптур, сделанными в процессе профессиональных археологических изысканий. На сегодняшний день комплекс разнообразных данных о целом ряде доисторических деревянных монументальных антропоморфных скульптур, найденных в разных частях Северной Евразии, позволяет сформировать предположение о появлении этого типа скульптуры не ранее конца каменного – начала бронзового века2.
Список литературы Большой Шигирский идол в контексте антропоморфизма доисторического мобильного и монументального искусства Европы и Зауралья
- Ванкина Л. В., 1970. Торфяниковая стоянка Сарнате. Рига: Зинатне. 268 с.
- Гаджиева Е. А., 2004. Идолы VI разреза Горбуновского торфяника (несколько замечаний по вопросу культурно-хронологической принадлежности) // Четвертые Берсовские чтения. Екатеринбург: Аква-Пресс. С. 91–99.
- Дэвлет Е. Г., 2018. «Прозрачная» плоть: к интерпретации антропоморфных изображений на Шигирском идоле // УИВ. № 1 (58). С. 20–28.
- Жилин М. Г., Савченко С. Н., Тербергер Т., Хойсснер К.-У., 2016. Предварительные результаты исследований деревянной культовой скульптуры – Большого Шигирского идола // Седьмые Берсовские чтения (2014 г.). Екатеринбург: Квадрат. С. 30–32.
- Кашина Е. А., 2009. Резные антропоморфные изображения неолита-энеолита лесной зоны Восточной Европы и Скандинавии // Верхнедонской археологический сборник. Вып. 4. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т. С. 38–51.
- Кашина Е. А., Чаиркина Н. М., 2011. Деревянная посуда с навершиями в виде голов водоплавающих птиц на территории Зауралья, лесной зоны Восточной и Северной Европы // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. Т. 10. Вып. 7. Археология и этнография. С. 157–169.
- Кашина Е. А., Чаиркина Н. М., 2016. Деревянные весла VI разреза Горбуновского торфяника в собрании Государственного исторического музея // Седьмые Берсовские чтения (2014 г.). Екатеринбург: Квадрат. С. 334–345.
- Кашина Е. А., Чаиркина Н. М., 2017. Деревянные весла из торфяниковых памятников Зауралья, Восточной и Западной Европы // АЭАЕ. Т. 45. № 2. С. 97–106.
- Косинская Л. Л., 2000. Связи в неолите европейского Северо-Востока и Западной Сибири // Коренные этносы Севера Европейской части России на пороге нового тысячелетия: история, современность, перспективы: материалы Междунар. науч. конф. / Отв. ред. Э. А. Савельева. Сыктывкар: Коми науч. центр Уральского отд. РАН. С. 181–184.
- Костылева Е. Л., Уткин А. В., 2010. Нео-энеолитические могильники Верхнего Поволжья и Волго-Окского междуречья. Планиграфические и хронологические структуры. М.: Таус. 300 с.
- Костылева Е. Л., Уткин А. В., 2021. «Восточно-прибалтийский след» в оформлении ритуальной маски из «святилища» могильника Сахтыш IIа (Центр Русской равнины) // ТАС. Вып. 12. Материалы 21–22-го заседаний научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности» / Под ред. И. Н. Черных. Тверь: Триада. С. 299–308.
- Лобанова Н. В., 1995. Мезолитические поселения в районе мыса Бесов Нос // Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего средневековья лесной зоны Восточной Европы. Вып. II. Иваново. С. 32–40.
- Мошинская В. И., 1976. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири. М.: Наука. 132 с.
- Райнхольд С., 2018. В новый мир – изображения человека и отражение социальных архетипов в Западной Евразии после неолита // УИВ. № 1 (58). С. 62–73.
- Савченко С. Н., Жилин М. Г., 2004. О новых деталях изображений Большого Шигирского идола // Четвертые Берсовские чтения. Екатеринбург: Аква-Пресс. С. 130–135.
- Савченко С. Н., Ромэн О., 2011. Шигирская коллекция барона де Бая в Музее Человека (Париж, Франция) // Шестые Берсовские чтения. Екатеринбург: Квадрат. С. 250–259.
- Фосс М. Е., 1952. Древнейшая история севера Европейской части СССР. М.: Изд-во АН СССР. 278 с. (МИА; № 29.)
- Чаиркина Н. М., 2005. Энеолит Среднего Зауралья. Екатеринбург: Ин-т истории и археологии Уральского отд. РАН. 312 с.
- Чаиркина Н. М., 2013. Большой Шигирский идол // УИВ. № 4 (41). С. 100–110.
- Чаиркина Н. М., 2014. Деревянная антропоморфная скульптура Зауралья // АЭАЕ. Т. 57. № 1. С. 81–89.
- Чаиркина Н. М., 2021. К вопросу о времени создания Большого Шигирского идола // АЭАЕ. Т. 49. № 2. С. 32–42.
- Эдинг Д. Н., 1940. Резная скульптура Урала. Из истории звериного стиля. М.: ГИМ. 104 с.
- Bobrov V., 2021. Shigir idol: origins of monumental sculpture and ideas about the ways of preservation of representational tradition // Quaternary International. Vol. 573. P. 38–48.
- Capelle T., 1995. Anthropomorphe Holzidole in Mittel- und Nordeuropa. Stockholm: Almquist & Wiksell International. 68 p. (Scripta minora Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis; 1995/1996, no. 1.)
- Chairkina N., Kuzmin Y., Hodgins G., 2017. Radiocarbon chronology of the Mesolithic, Neolithic, Aeneolithic, and Bronze Age sites in the Trans-Urals (Russia): a general framework // Radiocarbon. Vol. 59. Iss. 2. P. 505–518.
- Girininkas A., Daugnora L., 2016. The Early Bronze Age Cemetery in East Lithuania // A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania / Ed. G. Zabiela et al. Vilnius: Society of Lithuanian Archaeology. P. 110–119.
- Höflmayer F., 2016. Radiocarbon Dating and Egyptian Chronology – From the «Curve of Knowns» to Bayesian Modeling [Электронный ресурс]. URL: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935413.001.0001/oxfordhb-9780199935413-e-64?print=pdf (дата обращения: 01.02.2022.)
- Jonuks T., 2021. Mesolithic anthropomorphic sculptures from the Northern Europe // Quaternary International. Vol. 573. P. 104–112.
- Kashina E., Ahola M., Mannermaa K., 2021. Ninety years after: New analyses and interpretations of Kubenino hunter-gatherer burials, north-western Russia (c. 5000 cal BC) // Quarternary International. Vol. 574. P. 78–90.
- Koksharov S. F., 2021. A new subject in the study of the Great Shigir Idol // Quarternary International. Vol. 573. P. 30–37.
- Kozłowski J., Goslar T., Suciu C. I., Mirea P., 2015. Radiocarbon dating of the Early Neolithic wooden objects from Southern Romania // Eurasian Prehistory. Vol. 12. No. 1–2. P. 117–128.
- Leppäaho J., 1937. Pohjankurun «puujumalainen» // Suomen Museo. XLIII (1936). Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys. P. 38–42.
- Müller-Wille M., 1999. Opferkulte der Germanen und Slaven. Stuttgart: Theiss. 102 p.
- Rimantiene R., 2005. Die Steinzeit-fischer an der Ostseelagune in Litauen. Forschungen in Sventoji und Butinge. Vilnius: Litauisches Nationalmuseum. 525 p.
- Robb J., 2009. People of Stone. Stelae, personhood, and society in prehistoric Europe // Journal of Archaeological Method and Theory. Vol. 16. Iss. 3. P. 162–183.
- Steuer H., 2006. Über anthropomorphe Moorpfähle der vorrömischen Eisenzeit // Studien zur Lebenswelt der Eisenzeit. Festschrift für Rosemarie Müller / Ed. W.-R. Teegen et al. Berlin; New York: De Gruyter. P. 69–87. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde; 53.)
- Terberger T., Zhilin M., Savchenko S., 2021. The Shigir idol in the context of early art in Eurasia // Quaternary International. Vol. 573. P. 14–29.
- Van Es W. A., Casparie W. A., 1969. Mesolithic wooden statuette from the Volkerak, near Willemstad, North Brabant // Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 18. Amersfoort. P. 111–116.
- Zhilin M., Savchenko S., Hansen S., Heussner K.-U., Terberger T., 2018. Early art in the Urals: new research on the wooden sculpture from Shigir // Antiquity. Vol. 92. Iss. 362. P. 334–350.