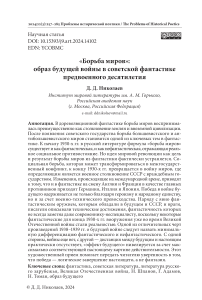«Борьба миров»: образ будущей войны в советской фантастике предвоенного десятилетия
Автор: Николаев Д.Д.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В дореволюционной фантастике борьба миров воспринималась преимущественно как столкновение землян и внеземной цивилизации. После появления советского государства борьба большевистского и антибольшевистского миров становится одной из ключевых тем в фантастике. К началу 1930-х гг. в русской литературе формула «борьба миров» существует и как фантастическая, и как нефантастическая, отражающая реальное социальное противостояние. Но идея мировой революции как цель и результат борьбы миров из фантастики фактически устраняется. Социальная борьба, которая может трансформироваться в межгосударственный конфликт, к концу 1930-х гг. превращается в войну миров, где определяющим является военное столкновение СССР с враждебным государством. Изменения, происходящие на международной арене, приводят к тому, что и в фантастике на смену Англии и Франции в качестве главных противников приходят Германия, Италия и Япония. Победа в войне будущего одерживается не только благодаря героизму и народному единству, но и за счет военно-технического превосходства. Наряду с явно фантастическим оружием, которым обладали в будущем и СССР, и враги, писатели описывали технические достижения, фантастичность которых не всегда заметна даже современнику-неспециалисту, поскольку некоторые фантастические для конца 1930-х гг. вооружения уже во время Великой Отечественной войны стали реальностью. Одной из отличительных черт произведений 1938-1939 гг. о будущей войне следует назвать минимальную дифференциацию фантастического и нефантастического. С одной стороны, войны еще нет, с другой - дистанция между будущим и настоящим практически отсутствует, «эффект будущего» нивелируется за счет максимально соответствующей настоящему картине действительности. Этот художественный прием помогает передать читателю уверенность в том, что победа - логическое завершение настоящего, а не фантазия.
Фантастика, советская литература, литература русского зарубежья, великая отечественная война, н. шпанов, г. адамов, н. томан, образ будущего
Короткий адрес: https://sciup.org/147244404
IDR: 147244404 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.14102
Текст научной статьи «Борьба миров»: образ будущей войны в советской фантастике предвоенного десятилетия
«Борьба миров» занимает центральное место в отечественной фантастике — и в советской литературе, и в литературе русского зарубежья, если говорить о межвоенных десятилетиях в целом. Образ будущего в значительной степени связан и с тем, как изображается эта борьба, и с тем, чем она завершается. Будущее есть не только результат, итог борьбы, но и сама борьба может проецироваться в будущее.
Тем не менее в название статьи вынесена только советская фантастика. Это обусловлено не стремлением сузить тему или игнорировать тексты, созданные русскими писателями в эмиграции в 1930-е гг. (о типологическом единстве русской литературы ХХ в. см.: [Николаев, 2013]), а реалиями литературного процесса. Если в начале 1920-х гг. изображение «борьбы миров» является важным для фантастики русского зарубежья [Николаев, 2007], то во второй половине 1920-х интерес к теме ослабевает, как и к художественному осмыслению будущего вообще.
Акцент на осмыслении в данном случае сделан специально. Первичным для писателей эмиграции при изображении будущего является социально-политический прогноз — судьба России, а часто и судьба всего мира, связанная именно с будущим России. В первые годы после революции, когда еще сохраняется надежда на скорое падение большевиков, базовый прогноз очевиден и строится на свержении или трансформации советской власти. Эти социально-политические изменения могут быть отнесены в будущем к разному времени, но они кажутся неизбежными — и в таковом качестве утверждаются в фантастике.
В советской фантастике, напротив, неизбежным представляется конечное торжество в будущем мировой революции (опять же в разной степени удаленности от настоящего), если, конечно, данный вопрос вообще в произведении затрагивается. Я уже отмечал, что в произведениях о ближайшем будущем — таких, например, как «Роковые яйца» М. А. Булгакова, — значимым является само существование в будущем советского государства [Николаев, 2012, 2015].
Поскольку вопрос о будущем Советской России или СССР являлся в то время центральным и ожесточенная «борьба миров» шла в настоящем, обходить его стороной в произведениях о будущем было затруднительно: наиболее актуальный конфликт требовал разрешения и в фантастике.
Однако затем ситуация меняется — и меняется в советской литературе и в литературе русского зарубежья по-разному. Неожиданная для большей части эмиграции устойчивость новой власти в России приводит к тому, что предсказание победы над ней в ближайшем будущем выглядело бы неубедительно даже для фантастики. Решение проблемы с помощью фантастического изобретения, как в повести П. П. Тутковского «Перст Божий»1, уже в 1924 г. только подчеркивало невозможность свержения советской власти без чудесного вмешательства (см.: [Николаев, 2006]). И хотя у Тутковского изобретение становится катализатором народного восстания, изображение такого восстания в будущем по мере укрепления СССР кажется все менее приемлемым для фантастического текста.
Показывать падение советской власти в удаленном будущем писатели эмиграции тоже не могли: тем самым они признавали бы, что СССР продолжит существовать в ближайшие десятилетия, в то время как читатели надеялись на скорое возвращение на родину. Кроме того, по мере интеграции за рубежом беженцев из России сам конфликт постепенно трансформируется. Из социально-политического внутреннего (старой России и новой России) он превращается в политический внешний, из внутригосударственного — в межгосударственный.
Не является приемлемым разрешением «борьбы миров» в будущем для фантастики русского зарубежья и война других стран с Россией, пусть и советской, заканчивающаяся поражением России, хотя для собственно зарубежной фантастики это характерная сюжетная модель. Но именно в данном направлении развивается советская фантастика, предсказывающая, как и европейская, скорую войну, только с противоположным, естественно, для СССР результатом.
Фиксирующиеся в 1930-е гг. в русской литературе в целом изменения приводят к существенной трансформации изображения «борьбы миров» в советской фантастике и убирают ее на периферию в фантастике эмиграции. Эта трансформация — от дореволюционной фантастики через фантастику первого десятилетия советской власти к фантастике предвоенного десятилетия — прослеживается уже на уровне использования формулы «Борьба миров».
Понятно, что заимствована она из произведения Герберта Уэллса. Роман “The War of the Worlds”, сейчас известный у нас преимущественно как «Война миров», с конца XIX в. издавался на русском в основном под названием «Борьба миров». Так он был назван в 1898 г. в переводах К. К. Толстого2, З. Журавской3 и в 1903 г. в переводе М. Перфильевой4. Правда, в собрании сочинений Уэллса, изданном в Санкт-Петербурге «Шиповником», в 1910 г. перевод Журавской был напечатан под названием «Война миров». Название «Борьба миров» издатели продолжали использовать и после революции — к этому мы вернемся.
В восприятии фантастической парадигмы в дореволюционное время борьба миров воспринималась преимущественно как столкновение земного и внеземного миров. Противопоставление «мира голодных и рабов» и «мира насилья» рассматривалось как нефантастическое, и борьба эта в реальности должна была в будущем привести не к «борьбе миров», а к смене одного мира другим. Вспомним хрестоматийные стро ки «Интернац ионала»:
«Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим —
Кто был ничем, тот станет всем».
Не являлось «борьбой миров» и изображение войн будущего в фантастике — например, у Августа Нимана в романе 1904 г. «Всемирная война. Мечты немца». Это было столкновение государств и народов, а не «миров». Автор в предисловии писал:
«Я представляю себе, что сухопутные армии и флоты Германии, Франции и России отправляются в поход против общего врага, который своими руками, похожими на ноги полипа, охватывает весь земной шар. Благодаря сильному нападению со стороны трех союзных держав, вся Европа будет освобождена от его объятий, в которых он всех душит. Будущее чревато великой войною» 5 .
В том же году появились переводы этого романа на русский и — что показательно — на английский. В напечатанной в «Нью-Йорк Таймс» 10 декабря 1904 г. рецензии говорилось, что книга, в которой отразилась мечта о создании общеевропейской антианглийской коалиции, показывает, как определенные круги в Германии смотрят на вещи, и в этом смысле может служить предупреждением Великобритании.
После появления советского государства меняется ситуация в реальности, что влечет за собой ее изменение и в фантастике. Борьба двух миров — большевистского и антибольшевистского — становится одной из ключевых тем и в советской фантастике, и в фантастике русского зарубежья, а затем входит и в зарубежную фантастику.
В то же время сама формула «борьба миров» постепенно теряет связанную с романом Уэллса устойчивую коннотацию фантастического. В 1918–1922 гг. произведение Уэллса еще несколько раз издается под названием «Борьба миров» — в составе собрания сочинений (Пг., 1918), в «Общей библиоте ке», «Универса льной библиотеке», во «Всеобщей библиотеке»
Госиздата6. А в 1923 г. в Москве начинает выходить «журнал приключений» под названием «Борьба миров». В этом журнале борьба миров уже осмыслялась не как столкновение Земли и Марса, а как социальная борьба «пролетариата против капитала».
В первом номере 1924 г. редакция заявляла, что «борьба миров никогда не достигала такого напряжения, как в нашу эпоху»: «Черные, желтые и оливковые рабы против белых империалистов». От социальной борьбы сразу прочерчивалась прямая линия к науке:
«Этой борьбе служит наука. В двадцатом веке не неуклюжие пушки, а легкокрылые аэро решают бои» 7 .
Но перехода от науки к фантастике в редакционной программе заявлено не было. Смысл был в обратном: фантастическая «борьба миров» Уэллса превращалась в реальную социальную борьбу. Хотя элементы фантастики в некоторых опубликованных в журнале текстах встречались: так, в повести Бориса Перелешина «Заговор Мурман-Памир»8 о борьбе чекистов в 1918 г. белогвардейцы хотели использовать мощнейший взрывчатый яд два икс.
Журнал «Борьба миров» в 1920-е гг. просуществовал недолго: в 1923–1924 гг. вышло восемь номеров. И с 1925 г. снова следуют регулярные переиздания романа Уэллса под названием «Борьба миров». Но в 1930 г. в составе полного собрания фантастических романов писателя в издательстве «Земля и фабрика» роман печатают уже под заглавием «Война миров»9. А под названием «Борьба миров» в 1930 г. начинает вновь выходить периодическое издание — теперь как приложение к журналу «Смена» и с подзаголовком «Ежемесячник революционной романтики, путешествий, научной фантастики, изобретений, пропаганды генерального плана».
Сама редакция именовала издание сперва не журналом, а «сборником», но мы будем сразу использовать определение «журнал». Как видно из подзаголовка, на этот раз изначально предполагалось, что научная фантастика будет играть весомую роль в журнале, и в 1930 г. так и было. В первом номере появился очерк П. Лопатина «Завтрашний день», предваряя который редакция отмечала, что «картина, развернутая инж. Лопатиным, уже не кажется нам фантастической»10. Здесь же начинается публикация «научно-фантастического и политического романа» Э. Зеликовича «Следующий мир», которая продолжалась до июля. Интересно, что редакция прямо связывала текст с творчеством Уэллса, подчеркивая, что Зеликович «в своем романе развертывает увлекательные страницы, используя метод известного Герберта Уэльса»11.
На публикациях 1930 г. мы подробнее останавливаться не будем: важно отметить сам факт присутствия фантастики в программе журнала «Борьба миров».
Таким образом, формула «борьба миров» к началу 1930-х гг. существует и как фантастическая — в связи с романом Уэллса и уже вне устойчивой связи с ним, — и как нефантастическая, отражающая реальное социальное противостояние.
Что касается непосредственного изображения «борьбы миров» в советской фантастике и фантастике русского зарубежья в 1920-е гг., то основные этапы рассматривались в монографии «Русская проза 1920–1930-х годов: авантюрная, фантастическая и историческая проза» [Николаев, 2006], поэтому сейчас повторим лишь ключевой вывод.
Борьба миров — если говорить о глобальном столкновении, а не о частных ее проявлениях — в фантастике первых десяти лет советской власти — это путь к мировой революции. Но идея мировой революции была тесно связана с Троцким и троцкизмом, а потому в период между исключением Троцкого и Каменева из Политбюро в октябре 1926 г. и их исключением из ЦК в октябре 1927 г. из фантастики мировая революция как цель и результат борьбы миров фактически устраняется.
Важную роль сыграли еще два события 1927 г.: убийство 7 июня Борисом Ковердой советского полпреда в Польше Войкова на варшавском вокзале и так называемая «Шанхайская резня» в апреле 1927 г., после которой сторонники Чан Кайши одержали победу над коммунистами из Уханьского правительства, показав, что «мировая контрреволюция» оказывается сильнее и действеннее мировой революции.
В провале китайской революции в так называемом «Заявлении 83-х» [Архив Троцкого: 60–72], подготовленном сторонниками Троцкого и Зиновьева, обвинялась «руководящая группа ЦК». В нем также отмечалось, что «в коммунистических партиях всего мира (в том числе и в широких кругах ВКП), в связи с китайским поражением, господствует величайшая растерянность», и что «китайское поражение может самым непосредственным образом отразиться и на судьбе СССР в ближайшее же время. Если империалистам удастся на длительное время "усмирить" Китай, — они двинутся затем на нас, на СССР. Поражение китайской революции может чрезвычайно приблизить войну против СССР» [Архив Троцкого: 61].
И еще одна цитата из этого заявления:
« Международное положение становится все более напряженным. Опасность войны увеличивается. Центральная задача ВКП и всего авангарда международного пролетариата заключается сейчас в том, чтобы предотвратить (или хотя бы только оттянуть на возможно больший срок) войну, чтобы поддержать и отстоять во что бы то ни стало политику мира, которую провести до конца способна только наша партия и советская власть » [Архив Троцкого: 66].
Фактически мы видим, как от господствовавшей ранее идеи, что грядущая мировая война приблизит мировую революцию, поскольку пролетариат всех стран восстанет против угнетателей, отказываются и троцкисты.
Перемены в политике сразу же сказываются и на литературе. Их можно зафиксировать уже в 1927 г. Роман А. Шишко
«Аппетит микробов», вышедший в издательстве «Молодая гвардия»12, еще завершается победой коммунистической революции во Франции. Как и в изданном годом ранее романе Шишко «Господин Антихрист»13, революция становится закономерным итогом европейской войны, которую начинают империалисты, пытающиеся таким образом продлить век капитализма. Отличие заключается лишь в том, что в «Аппетите микробов» Франция уже не агрессор, а объект нападения. Но Шишко показывает, что к войне готовятся все: громадные арсеналы химического оружия создаются в США, Англии, Франции, Германии, в Международный Химический Трест входят и заводы в Италии, Бельгии, Голландии. А вот роман Я. Окунева «Завтрашний день» переиздается в 1927 г. уже под новым названием — «Катастрофа»14. Из финала убираются звучавшие рефреном в первом издании строки телеграмм, оповещающих весь мир о мировой революции (подробнее см.: [Николаев, 2006: 300–307; 322–327]).
Период с 1927 г. и до середины 1930-х гг. можно назвать периодом неопределенности, связанным с трансформацией советской политики. Разумеется, борьба миров из фантастики не уходит, но чаще она отражается в изображении негативных последствий открытий и изобретений в буржуазном обществе и позитивных — в социалистическом и коммунистическом. Здесь, разумеется, нужно в первую очередь назвать произведения Александра Беляева.
Журнал «Борьба миров», в подзаголовке которого научная фантастика к тому времени уже сменилась «социальной фантастикой», в начале 1931 г. печатает повесть А. Скачко «Может быть — завтра»15. В прологе рассказывается о том, как начавшаяся между Англией и САСШ война постепенно охватывает весь мир. Непосредственно в борьбу против СССР в по вести включен ы бывшие белогвардейцы, Польша и Франция.
На эту повесть следует обратить внимание по двум причинам: во-первых, это последнее крупное фантастическое произведение, появившееся в журнале «Борьба миров». Затем фантастика из журнала практически исчезает — и социальное противостояние миров с апрельского номера 1931 г. сводится к интерпретации реального (настоящего и прошлого). В 1932 г. журнал выходит уже как издание «Комсомольской правды» и без всякого подзаголовка. Борьба миров в нем интерпретируется не как военно-политическое столкновение, а как сосуществование двух систем. Не мирное, а в борьбе, но все же параллельное существование. Рассказывая о задаче журнала, в рекламном объявлении редакция заявляет:
«Два мира. Две силы. Отмирающий капитализм и социалистическая система. Капиталистические страны охвачены жесточайшим кризисом. Закрываются фабрики и заводы, лопаются банки, идут с молотка разорившиеся крестьянские хозяйства. Рабочие среди изобилия, созданного их руками, умирают с голода. Социалистическая система не знает кризиса. Каждый день вступают в строй все новые и новые заводы, растут новые города. Главная и основная задача журнала "Борьба миров" — показать во весь рост эти две системы; показать революционную борьбу рабочих в капиталистических странах и участие в этой борьбе зарубежного комсомола. <…> Журнал "Борьба миров" должен показать две техники, рассказать о нашем враге, о вооружении буржуазии, о борьбе на научном фронте» 16 .
Весной 1933 г. «Борьба миров» вообще перестает выходить. Вторая причина — повесть «Может быть — завтра» — произведение, которым по сути заканчивается доминировавшая в фантастике на протяжении 1920-х гг. линия военно-политического противостояния СССР и капиталистических государств, где главными противниками были Англия, США и Франция.
Изменения, происходящие на международной арене, влекут за собой изменения во внешней политике СССР и по отношению к СССР, а это, в свою очередь, отражается и на изображе нии борьбы ми ров в фантастике (подробнее см.: [Николаев, 2010]).
Еще в мае 1931 г. на военно-литературных играх Литературного объединения Красной Армии и Флота (см. о ЛОКАФ и «оборонной литературе» [Добренко], [Закружная, Московская], [Бурцева]) писателям предлагался сценарий, в котором Франция и Англия «побудили прибалтийские государства, Польшу и Румынию начать вооруженное выступление против СССР» [Сысоева: 165]. Но в середине 1931 г. Франция отменяет так называемые антидемпинговые меры в отношении СССР, а затем начинается работа над Пактом о ненападении. После его подписания 29 ноября 1932 г. СССР и Франция обязывались не вмешиваться во внутренние дела друг друга, что делало события, подобные изображенным в повести Скачко, невозможными с точки зрения следования договору. Франция больше не могла поощрять активную антисоветскую деятельность русской эмиграции, а Советский Союз — антиправительственную борьбу во Франции. Снималась с повестки дня и задача ее изображать и пропагандировать в литературе.
Образ будущего определяется настоящим: изображение войны будущего должно готовить читателя к столкновению с реальным на данный момент противником. Хотя фантастическое и является по определению изображением невозможного (подробнее см.: [Николаев, 2006: 226–238]), границы возможного и невозможного в художественном произведении могут быть прочерчены по-разному. И определяет их не только авторская воля, но и «читательский запрос», выразителями которого являются как сами читатели, «голосующие рублем», так и регламентирующие инстанции — от редакций до высшей государственной власти.
Фантастический текст состоит не только из фантастического, но и из нефантастического. При этом нефантастическое является также художественным вымыслом, т. е. с точки зрения отношения к реальности вымышленным в художественном тексте является и фантастическое, и нефантастическое.
Эта дифференциация фантастического и нефантастического в вымышленном является часто весьма сложной задачей не только для читателя, но и для исследователя, особенно если он не сосредоточен конкретно на фантастике. К примеру, при изображении будущего мы неизбежно сохраняем какие-то элементы настоящего: в быту, в природе, в характерах и взаимоотношениях людей и т. д. Даже само существование людей, цивилизации, Земли, Вселенной в будущем — это проекция настоящего.
Нефантастическое в фантастическом тексте играет важнейшую роль, потому что оно позволяет выделить, подчеркнуть фантастическое. Но при использовании фантастики в тексте может стоять и задача противоположная — не выделить, а в какие-то моменты, напротив, сделать использование фантастики незаметным.
Линия на сотрудничество с Францией продолжает последовательно развиваться в 1930-е гг. 11 января 1934 г. заключается торговый договор, 2 мая 1935 г. — франко-советский Пакт о взаимопомощи. В результате Франция и Великобритания как основные государства-противники СССР из советской фантастики исчезают. Новыми постоянными врагами в фантастике второй половины 1930-х гг. становятся державы оси: Германия, Италия и Япония. А Польша, которая прежде выступала как союзник Франции, теперь изображается уже как союзник Германии.
Борьба миров как социальная борьба, которая может трансформироваться в межгосударственный конфликт, но в основе своей все равно является войной классовой, постепенно к концу 1930-х гг. превращается в войну миров, где определяющим является уже военное столкновение государств, одним из которых является Советский Союз, а внутригосударственный классовый конфликт либо носит второстепенный характер, либо вообще отсутствует.
А. Ф. Бритиков отмечает, что «почти через все фантастические произведения 1930-х годов проходит мотив освободительной революционной войны и защиты Советской Родины» [Бритиков: 170], но обобщение здесь является явным преувеличением. Война есть далеко не во всех фантастических произведениях, и мотив революционной войны уходит на второй план. Война уже часто показывается фактически не как революционная, а как Отечественная, и революционные выступления в стане врага становятся следствием межгосударственного военного столкновения.
Разумеется, наряду с произведениями, где столкновение двух миров изображено непосредственно, как прямой конфликт, есть и другой тип противопоставления двух миров, когда происходящее в одном из миров изображается с позиций представителя противоборствующего мира. Так решается задача, к примеру, в повести-памфлете Л. Платова «Господин Бибабо», опубликованной в журнале «Вокруг света» в 1939 г. (№ 7. С. 17–25; № 8–9. С. 14–20).
Непосредственное столкновение двух миров может изображаться глобально — как столкновение двух стран — двух систем, но может показываться и как конфликт частного характера — с разной степенью вовлеченности в глобальное противостояние. В качестве примера приведем два известных произведения.
Первое — повесть А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля», которую будем трактовать как произведение фантастическое, поскольку на возможность «вранья» намекает лишь семантика фамилии. В повести Некрасова, опубликованной впервые в журнале «Пионер» в 1937 г. (кроме 10 номера), обратим внимание на то, как изображаются представители капиталистических стран — бывших и нынешних главных противников. Англичане показаны по-разному: ведущий себя по-джентльменски мистер Денди и его полная противоположность и главный соперник — в журнальной редакции его зовут мистер Гримсби, а в переработанной — мистер Болдуин. А милитаристы, которые пытаются захватить «Беду», — это японец адмирал Кусаки и итальянцы: сержант Джулико Бан-дитто и другие «головорезы», берущие экипаж в плен у берегов Эритреи.
Второе — роман Григория Адамова «Тайна двух океанов», напечатанный в журнале «Знание — сила» и в газете «Пионерская правда» в 1938 г. В нем в первой же главе появляется японский резидент капитан Маэда, который беседует со своим агентом, и лишь затем Адамов переходит к описанию фантастических технических достижений советских подводников.
С дальневосточным регионом связано и самое известное произведение середины 1930-х гг., непосредственно изображающее войну будущего. Это роман Петра Павленко «На Востоке», опубликованный в журнале «Знамя» (1936. № 7 и № 12) и в «Ро-ман-газете» в 1936–1937 гг. (1936. № 9–10; 1937. № 2).
О произведениях 1938–1939 гг. о будущей войне есть объемная и очень качественная с точки зрения подбора материала работа В. А. Токарева «Советская военная утопия кануна второй мировой» [Токарев; Бумажные войны]. Но с некоторыми его выводами и оценками согласиться трудно, потому что они не учитывают как раз специфику фантастического — как в целом, так и в произведениях этого периода. Впрочем, статья и не заявлена как филологическое исследование. Цель автора-историка — «реконструировать советский пропагандистский образ будущей войны» [Токарев: 98]. Однако без учета специфики художественного произведения — будь то фильм, спектакль или книга — вместо образа создаваемого мы видим образ воспринятый, причем интерпретированный исходя не из момента восприятия, а из сложного комплекса последующих оценок.
Начнем с того, что анализируемые произведения не имеют отношения к утопии как жанровой форме: Токарев и сам уже в самом начале статьи от термина «жанр» уходит. Кроме того, не учитывается специфика сценической и кинематографической условности, а большая часть работы Токарева посвящена фильмам и пьесам. Ну и, наконец, в статье нет разграничения фантастического и нефантастического, на чем и необходимо остановиться подробнее.
Неразграничение фантастического и нефантастического оказывается настолько убедительным и эффективным авторским художественным приемом, что продолжает воздействовать не только на читательскую аудиторию, но и на исследователей. Когда мы говорим о поэтике фантастического, то одной из отличительных черт произведений 1938–1939 гг. о будущей войне надо назвать установку на неразличение фантастического и реального. С одной стороны, в произведении заведомо изображается фантастическое, так как речь идет о войне, которой еще нет, — войне будущего. С другой стороны, дистанция между будущим и настоящим в изображении повседневной жизни, быта, политики, взаимоотношений людей и т. п., практически отсутствует.
Хотя кино не является предметом нашего анализа, один из фильмов, а точнее — его название, обойти никак нельзя. 23 февраля 1938 г. на советские краны выходит кинофильм «Если завтра война…». Эта формула использовалась в литературных произведениях и раньше, и позже, но в массовом сознании она в первую очередь связывается с фильмом. В формуле надо обратить внимание сразу на два элемента: приближенность изображаемого будущего и мнимую условность «если», которое на самом деле выражает допущение того, что происходит далее. Заключение в монографии «Русская проза 1920–1930-х годов: авантюрная, фантастическая и историческая проза» названо «Завтра — война», уже без «если», поскольку допущение стало реальностью [Николаев, 2006: 673].
Будущее в произведениях — это, действительно, «завтра», завтрашний день, который практически ничем не отличается от сегодняшнего. О войне будущего повествуется как о войне настоящего, фантастический элемент не подчеркивается, а, напротив, нивелируется за счет максимально соответствующей настоящему картины действительности. И это не следствие недостатка воображения у авторов, а художественный прием, преследующий определенную цель. Поскольку итог развития сюжета — победа над врагом, читатель должен чувствовать уверенность в том, что победа одерживается здесь и сейчас, а не когда-то в неопределенном будущем, что победа вытекает из настоящего, а не является фантазией автора.
В то же время просто изображением ближайшего будущего, в котором идет война, писатели, как правило, не ограничиваются. В качестве второго фантастического элемента используется фантастическое оружие, технические достижения, изобретения, которых нет в настоящем. Причем эти достижения и изобретения, что нужно отметить особо, могут быть не только у СССР, но и у обеих враждующих сторон. К примеру, в «Тайне двух океанов» мы сперва видим фантастический японский портативный парашют — и лишь в следующей главе фантастические советские скафандры.
В повести Николая Томана «Мимикрин доктора Ильичева», опубликованной в первых двух номерах журнала «Вокруг света» за 1939 г.17, особый корпус фашистской армии готовит и наносит удар по советской территории при помощи атомных батарей. Генерал Пеггендорф заявляет, что ему «нужно всего семьдесят два часа, чтобы сделать из Белоруссии форшмак» «и не более пяти суток понадобится для Украины»18.
Кроме того, у фашистов есть «радиоволны, выводящие из строя наши моторы», «оптические батареи», орудия которых «никогда не дают промаха» и которые «приводятся в действие фотоэлементами, чувствительными к самым незначительным изменениям не только рельефа местности, но и ее окраски. Любое световое пятно, появившееся в секторе обстрела оптических батарей, мгновенно регистрируется фотоэлементом, который приводит в действие орудия бата-реи»19.
Для того чтобы нанести успешный контрудар, советскому командованию нужно провести разведку на передовых линиях противника, защищенных как раз этими непроходимыми оптическими батареями, которые мы, кстати, видим затем в действии. И вот здесь и приходится использовать изобретенный советским врачом Ильичевым «мимикрин», делающий человека невидимым, так как его тело почти полностью сливается с окраской окружающей местности или предметов. Однако испытания мимикрина не закончены и на данном этапе человек, который решится его применить, должен через двое суток погибнуть.
Инженер Гроздев готов пожертвовать собственной жизнью: его в конце успеют спасти, но важно обратить внимание на сам факт — если бы не героизм и самоотверженность инженера, никакие советские изобретения не помогли бы нанести контрудар. Добавим, что в повести гораздо больше внимания уделяется немецкой системе орудий, которые удается рассмотреть, пробравшись с помощью мимикрина на территорию врага, чем самому мимикрину.
Что касается техники, которую использует Красная армия в «завтрашней» войне, то читателям и сейчас, и в годы издания произведений далеко не всегда понятно, что речь идет о чем-то фантастическом.
Как правило, фантастика в произведениях, особенно рассчитанных на молодежную аудиторию, достаточно хорошо маркирована. И хотя подзаголовки с определением «фантастическое» используются не часто и фантастический характер не всегда очевиден читателям перед прочтением, принадлежность к корпусу фантастического не вызывает обычно сомнений после чтения текста. Но есть и иной характер использования фантастики, при котором она должна восприниматься как реальность.
В ряде произведений писатели изображают в будущем не «страну-мечту» [Гумерова], в которой в реальность воплотились мечты, осознаваемые и писателями, и читателями именно в этом качестве, а страну-реальность, в которой отсутствующее в настоящем либо вообще не воспринимается отсутствующим, либо осознается как почти реализованный проект, а не как мечта, которая есть нечто в реальности не достижимое.
В феврале 1938 г. журнал «Знание — сила» печатает под названием «Воздушная операция будущей войны» отрывок из романа Александра Шейдемана и Валентина Наумова20. «Воздушная война 194* года» — так этот фрагмент представлен в редакционной врезке. В отрывке описан рейд советской бомбардировочной эскадрильи. Сейчас описание самолетов нас вряд ли удивит, но тогда оно носило фантастический характер: в эскадрилье двадцать восемь «двухмоторных цельнометаллических самолетов» с «герметическими кабинами»21; бомбардировщики поднимаются на высоту 9000 метров, летят со скоростью 510 километров, несут по десять стокилограммовых бомб и «свирепые» зажигательные бомбы. Публикация, кстати, сопровождалась фотографиями французских, английских и американских самолетов.
Напечатанный в 1939 г. в четвертом номере журнала «Знание — сила» очерк Л. Воронцова назывался, как и кинофильм, «Если завтра война»22. На первый взгляд, считать его фантастическим произведением нельзя: будущее в названии условно и изображение войны автор предлагает «вообразить». И там тоже нет изображения технических средств, отсутствие которых в реальности было бы очевидно для всех. Мы можем сказать, что в тексте нет явно фантастического, зато есть фантастическое в деталях.
Противник у Воронцова назван прямо: «Мы узнаем нашего врага — это германские фашисты». Победа в воображаемом столкновении одерживается и за счет количественного, и за счет технического превосходства. В частности, в бою принимают участие «краснозвездные самолеты», которые «мчатся, как метеоры»:
«Скорость их потрясающая, — мы не в состоянии точно определить ее, но мы знаем, что советские истребители и даже бомбардировщики устремляются вперед со скоростью, много превышающей 500 километров в час».
Но на самом деле на вооружении советской армии в 1939 г. были преимущественно истребители И-16 со скоростью, не превышавшей 480 км в час. А основной вариант истребителей И-153 («Чайка»), который в 1939 г. только запустили в производство, имел максимальную скорость 426 км в час.
Советские истребители и бомбардировщики, летающие со скоростью более 500 километров в час, — это такая же фантастика в 1939 г. для Красной армии, как и мимикрин. То же самое касается и высоты полета. У Воронцова «советские самолеты несут свой смертоносный груз на высоте 12–14 километров и даже выше». А практический потолок «Чайки» был 11 000 метров.
Если бы Воронцов использовал реальные технические характеристики, то ему пришлось бы придумывать и другую схему победы. Из сопоставления существовавших возможностей самолетов скорее вытекала победа Германии, а не СССР.
«…Так будет, если завтра вспыхнет война», — предупреждал Воронцов.
Точно так же показывается советская авиация и в знаменитой повести Николая Шпанова «Первый удар». Первые отрывки из нее, носившей тогда название «Двенадцать часов войны», были напечатаны в 1936 г. в «Комсомольской правде». Изначально Шпанов, судя по всему, хотел написать советский ответ на роман «Воздушная война 1936 года. Разрушение Парижа», который в 1932 г. Роберт Кнаусс выпустил под именем майора Гельдерса23. Кнаусс был не просто фантастом: с помощью романа опытный специалист в области авиации продвигал свои военные идеи, которые, заметим, были восприняты в Германии: в 1935 г. Кнаусс становится майором «Люфтваффе», а в 1940-м — уже в звании генерал-майора — командующим Воздушной военной академией.
Карьера Кнаусса в гитлеровской Германии подтверждает, что воплощенные в фантастическом произведении идеи могли отражать реальные военные стратегии, и роман его и в Советском Союзе рассматривался не просто как «развлекательное чтение». В том же 1932 г. книгу на русском выпустило Государственное военное издательство, а в 1934 г. еще и переиздало. Реакцию на книгу Кнаусса-Гельдерса мы здесь рассматривать не будем, упомянем лишь опубликованные в 1933 г. в журнале «Знамя»24 и «приложенные» затем к изданию 1934 г. «полемические варианты» Петра Павленко25.
Кстати, впервые познакомил советского читателя с романом «Воздушная война 1936 года. Разрушение Парижа» в 1932 г. журнал «ЛОКАФ», который затем и трансформировался в «Знамя». И в «Знамени» же в 1939 г. впервые была напечатана «повесть о будущей войне» Шпанова «Первый удар», выросшая из сценария кинофильма «Глубокий рейд». Подробный анализ «Первого удара» и ее роли требует отдельной статьи, поэтому здесь выделим лишь ключевые с точки зрения нашей темы моменты.
Шпанов, как и Кнаусс, был связан с авиацией еще с Первой мировой войны: в 1916 г. он окончил Высшую офицерскую воздухоплавательную школу в Гатчине. С 1923 г. Шпанов работает в авиатехническом журнале Общества Друзей Воздушного Флота «Самолет», с 1928 по 1937 гг. является заместителем главного редактора журнала «Техника воздушного флота», регулярно выпускает популярные брошюры, учебники, методические пособия на тему авиации: «Что сулит нам воздух» (1925), «Самолет как средство сообщения» (1925), «Сердце самолета: Как работает и устроен авиационный двигатель» (1927), «Мирное применение воздушного флота и воздушный флот в гражданской войне» (1928), «Дирижабль на войне» (1930), «Основы воздушных сообщений» (1930), «Современные авиационные моторы» (1931) и т. д. И параллельно с середины 1920-х гг. пишет художественные произведения.
Доскональное знание Шпановым положения дел в авиации следует подчеркнуть, чтобы стало понятно, насколько беспочвенными являлись последующие обвинения в его адрес в «шапкозакидательских» настроениях. Выдающийся советский авиаконструктор А. С. Яковлев писал в мемуарах:
«В тяжелые и беспокойные дни и ночи начала войны мысли невольно обращались к недавнему прошлому. Многие искали ответа на мучительный вопрос: как получилось, что к войне наша авиация оказалась неподготовленной? Ведь все были уверены, что, «если завтра война», враг будет немедленно сломлен и разбит, что наша могучая авиация нанесет по врагу уничтожающий удар. <…>
Вспоминается книга Н. Шпанова, изданная перед самой войной, летом 1939 года. Она называлась "Первый удар. Повесть о будущей войне". Книга эта посвящена авиации. Повесть Шпа-нова рекламировалась как "советская военная фантастика", но она предназначалась отнюдь не для детей. Книгу выпустило Военное издательство Наркомата обороны, и притом не как-нибудь, а в учебной серии "Библиотека командира"! Книга была призвана популяризировать нашу военно-авиационную доктрину.
Не один командир с горечью вспоминал впоследствии о недоброй "фантастике", которой, к сожалению, пронизывалась наша пропаганда перед войной, сеявшая иллюзии о том, что война, если она произойдет, будет выиграна быстро, малой кровью и на территории противника»26.
У Шпанова советские войска после вероломного нападения Германии, действительно, сразу же давали решительный отпор противнику и переносили боевые действия на вражескую территорию, но автор описывал лишь «первые двенадцать часов большой войны», и уже эти первые двенадцать часов приносили множество жертв. Погибал и главный герой Сафир, так что в книге не было и речи о том, что война будет выиграна быстро и малой кровью.
Победы в повести были результатом проявленного персонажами героизма, готовности к войне, удачного стечения обстоятельств и — превосходства в технике, превосходства выдуманного, поскольку книга носила фантастический характер (подробнее см.: [Николаев, 2006: 684–685]). Таких самолетов, которые показывал Шпанов, не было ни в 1939-м, ни в 1941-м не только у СССР, но и у Германии, хотя парижская газета «Возрождение» в июне 1939 г. в статье «Советский лубок» иронизировала над тем, что за 29 минут в повести «авиация, стоящая по мнению Линдберга, на последнем месте в Европе, расправляется с германской авиацией, по мнению того же Линдберга, первой в мире»27. Кстати, в том же номере «Возрождение» перепечатывало заметку о «расправах с летчиками» и авиаконструкторами в СССР и аресте Туполева:
«Сталинский погром не прошел мимо сов<етской> авиации. Если мы не знаем точного количества авиаспециалистов, уничтоженных в подвалах Лубянки, все же мы можем себе представить приблизительную цифру этих чудовищных опустошений» 28 .
Однако задачей писателя в фантастике не является изображение реального. Шпанов был убежден, что бомбардировочная авиация будет играть решающую роль в новой мировой войне, и предлагал в фантастической повести технические решения, свое видение структуры советских ВВС, описывал возможный ход будущей войны. Кстати, как и в повести, германское командование по плану «Барбаросса» стремилось уничтожить авиацию Западного военного округа прямо на аэродромах базирования.
Фантастические картины сражений, конечно, вселяли уверенность в будущей победе, но одновременно показывали отсутствие возможностей для такой победы в настоящем, если знать, где в тексте проходит граница между реальностью и вымыслом. Между прочим, в начале 1939 г., т. е. именно тогда, когда «Знамя» напечатало первоначальную редакцию повести, в Москве проходило совещание, посвященное развитию авиации, с участием И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова, наркома авиационной промышленности М. М. Кагановича, начальника ЦАГИ М. Н. Шульженко, конструкторов А. А. Архангельского, С. В. Ильюшина, В. Я. Климова, А. А. Микулина, Н. Н. Поликарпова, А. Д. Швецова, и др.
Подтверждая свои выводы приведенными выше словами Яковлева, А. Ф. Бритиков утверждал, что «получилось так, что военная теория стремилась подпереться утопическим творчеством (не зря же повесть Шпанова была издана в "Библиотеке командира")» [Бритиков: 175]. Но даже если военная теория и ориентировалось на «утопическое творчество» (что сомнительно, поскольку в приведенных примерах, наоборот, фантастика развивала военные теории), это никак не может стать претензией к творчеству.
Создавая в художественных произведениях образ будущего, советские фантасты, как правило, будущее «идеализировали». Уверенность в правильности выбранного пути неизбежно вела страну к светлому будущему, к победе коммунизма. Война многими воспринималась на этом пути как неизбежный этап, но в этой войне СССР не мог проиграть. А писатели-фантасты не могли написать произведение, в котором в будущем
Красная армия терпит поражение из-за того, что она хуже вооружена, чем враги. Значит, оставалось или вообще отказываться от изображения будущей войны или показывать в будущем не только моральное, но и техническое превосходство СССР. В основе фантастического изображения будущего лежали не частности, не технические достижения, а решение базового конфликта в «борьбе миров».
Специалисты прекрасно понимали, что в реальности техническим превосходством в воздухе, «если завтра война», обладает Германия, но обычные читатели в большинстве своем этого не знали. Фантастическое, которое не маркировано как фантастическое, в результате оборачивается мнимым — и это дало основание и современникам, и потомкам обвинять того же Шпанова в поражениях первых месяцев Великой Отечественной войны. К этим обвинениям писателей и кинематографистов в военных поражениях фактически присоединяется в своей работе и Токарев. В этом проявилась одна из ключевых проблем, связанных с интерпретацией фантастического в художественных произведениях.
Изображение будущего принято оценивать с позиций будущего, особенно если есть возможность сравнить изображение этого будущего и то, что стало в соответствующем году реальностью. Но художественное произведение в первую очередь надо соотносить не с будущим, а с настоящим — временем создания и временем «основного», если так можно выразиться, прочтения.
Как уже отмечалось, и Шпанов, и многие другие авторы произведений о будущей войне прекрасно знали реальные возможности советской военной техники. Равно как и высшее руководство страны, которое — а Сталин, как известно, читал «Первый удар» — понимало, что описанная в художественных произведениях победа достигается с помощью средств фантастических, которых еще нет у армии. И что необходимо время, чтобы претворить фантастические достижения советской оборонной науки и промышленности в реальность.
Кроме того, публикация в 1939 г. «Первого удара», как это ни парадоксально, готовила и СССР, и Германию к заключению пакта о ненападении. Он не должен был выглядеть капитуляцией одной из сторон. И советская аудитория после повести «Первый удар» считала, с одной стороны, что в соглашении СССР выступает с позиции силы, а с другой — что оно позволяет избежать многочисленных жертв. Именно такое восприятие задавала сюжетная конструкция: общая победа и гибель близких читателю героев.
Такие произведения, как «Первый удар» и очерк «Завтра была война», могли повлиять и на позицию Германии. Здесь нужно еще раз обратить внимание на специфику военно-фантастического в указанных текстах, на то, кто были авторы и где произведения печатались. Хотя описанная писателями боевая техника не соответствует реальным возможностям Красной армии, она и не слишком от них отстает. Во время войны будущего здесь не применяется явно фантастическое оружие — наподобие того, что часто встречается в фантастике 1920-х гг. А значит провести точную границу между фантастическим и реальным не могут не только советские читатели, но и потенциальные противники. Технические характеристики самолетов носят или допустимо реальный в ближайшем будущем характер, или вообще реальный. Скажем, скорость, превышающая 500 километров в час, достигалась некоторыми моделями разных стран времен Второй мировой войны. Таких машин еще нет на вооружении в СССР, но насколько в этом могут быть уверены в Германии?
Очерк «Завтра была война» был опубликован в журнале «Знание — сила» без всякого указания на его фантастический характер. Николай Шпанов воспринимался как специалист в авиастроении. Так что с точки зрения не только советской, но и зарубежной, в том числе разведывательной, аудитории, это были не просто фантастические тексты и уж тем более не «утопии». Они могли — за счет сознательной или случайной утечки — и в самом деле отражать потенциал Красной армии — и не только в слаженности действий и самоотверженности, но и в техническом оснащении.
Фантасты абсолютно точно указывали противников в будущей войне. Они точно показывали характер и направление первого удара — и то, что Германия нападет без объявления войны, и то, что в первые часы войны решающую роль будет играть авиация. Они показывали героизм и самоотверженность советского народа. Они предсказывали и показывали скорую и неизбежную войну, а утопией в той ситуации было бы изображение многолетнего мирного сосуществования.
Список литературы «Борьба миров»: образ будущей войны в советской фантастике предвоенного десятилетия
- Архив Троцкого: Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923–1927. М.: Терра, 1990. Т. 3. 256 с.
- Бритиков А. Ф. Русский советский научно-фантастический роман. Л.: Наука, 1970. 447 с.
- Бумажные войны: Военная фантастика 1871–1941 / сост. М. Фоменко. Б. м.: Salamandra P.V.V., 2015. 314 с.
- Бурцева А. О. Критика иностранной литературы на страницах советского оборонного журнала «ЛОКАФ»: как не стать Ремарком // Slověne. 2021. Т. 10. № 1. C. 347–367 [Электронный ресурс]. URL: http://slovene.ru/2021_1_Burtseva.pdf (10.06.2024). DOI: 10.31168/2305-6754.2021.10.1.15
- Гумерова А. Л. Будущее в отечественной детской фантастической литературе: Кир Булычев и Владислав Крапивин // Духовно-нравственное воспитание. 2024. № 3. С. 38–44. DOI 10.47639/2074-5001_2024_3_38
- Добренко Е. Оборонная литература и соцреализм: ЛОКАФ // Соцреалистический канон: сб. ст. / под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Акад. проект, 2000. С. 225–241.
- Закружная З. С., Московская Д. С. Институциональное измерение Советской литературы. К истории забытого литературного объединения ЛОКАФ // Филологический класс. 2018. № 2 (52). С. 12–18 [Электронный ресурс]. URL: https://filclass.ru/archive/2018/2-52/institutsionalnoe-izmerenie-sovetskoj-literatury-k-istorii-zabytogo-literaturnogo-ob-edineniya-lokaf (10.06.2024). DOI: 10.26710/fk18-02-02
- Левидова И. М., Парчевская Б. М. Герберт Джордж Уэллс: библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. 1898–1965. М.: Книга, 1966. 167 с.
- Николаев Д. Д. Русская проза 1920–1930-х годов: авантюрная, фантастическая и историческая проза. М.: Наука, 2006. 688 с.
- Николаев Д. Д. Фантастическая проза русского зарубежья 1920-х годов // Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы. М.: ИМЛИ РАН, 2007. Вып. 4. С. 128–182.
- Николаев Д. Д. Литература как пропаганда // В поисках новой идеологии: социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920–1930-х годов. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 494–594.
- Николаев Д. Д. Москва будущего в повести М. А. Булгакова «Роковые яйца» // Н. П. Анциферов. Филология прошлого и будущего: по материалам Междунар. науч. конф. «Первые московские Анциферовские чтения» (25–27 сентября 2012 г.). М.: ИМЛИ РАН, 2012. С. 317–322.
- Николаев Д. Д. О типологическом единстве русской литературы двадцатого века (к постановке проблемы) // Русское зарубежье: история и современность: сб. ст. М.: ИНИОН РАН, 2013. Вып. 2. С. 157–169.
- Николаев Д. Д. Будущее в повести М. Булгакова «Роковые яйца» // Филологические науки. 2015. № 2. С. 37–49 [Электронный ресурс]. URL: https://filolnauki.ru/ru/archive/895/3234 (10.06.2024). DOI: 10.20339/PhS.2-15.037
- Сысоева А. В. Создание советской военной пропаганды в Ленинграде начала 1930-х годов: новый метод работы с писателями // Русская литература. 2019. № 4. С. 159–165 [Электронный ресурс]. URL: https://ras.jes.su/rusliter/s013160950007874-5-1 (10.06.2024). DOI: 10.31860/0131-6095-2019-4-159-165
- Токарев В. А. Советская военная утопия кануна второй мировой // Европа. 2006. Том 5. № 1 (18). С. 97–161.