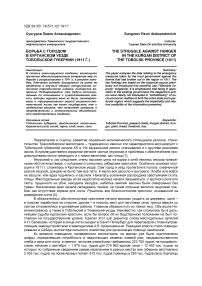Борьба с голодом в Курганском уезде Тобольской губернии (1911 г.)
Автор: Сунгуров Павел Александрович
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 20, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются сведения, касающиеся принятия административным аппаратом мер по борьбе с разразившимся к 1911 г. в регионе голодом. Ключевые выводы базируются на ранее не введенном в научный оборот историческом источнике (периодическое издание «Сибирские вопросы»). Подчеркивается, что, будучи оппозиционными по отношению к существовавшей власти, авторы журнала явно не были заинтересованы в «приукрашивании» реалий социально-экономической жизни как всего государства, так и отдельного региона, что позволяет говорить о непредвзятости и относительной объективности представленных сведений.
Тобольская губерния, крестьянские начальники, курганский уезд, голод, зерно, хлеб, скот, сено
Короткий адрес: https://sciup.org/14937724
IDR: 14937724 | УДК: 93:351.74(571.12)“1911”
Текст научной статьи Борьба с голодом в Курганском уезде Тобольской губернии (1911 г.)
Переселение и ссылка, развитие социально-экономического потенциала региона, строительство Транссибирской магистрали - традиционно именно эти характеристики ассоциируют с Тобольской губернией начала XX в. Но зауральский регион сталкивался и с другими реалиями жизни. В преимущественно аграрном регионе частые неурожаи и проблемы с обеспечением продовольствием могли приводить и к таким явлениям, как голод [1].
В обозначенных обстоятельствах крестьяне начали массово уходить из деревень: одни -в поисках заработков на стороне, другие - в поисках мест для заготовки сена, третьи вместе со скотом отправлялись в урожайные районы. Главным образом путь их лежал на р. Обь возле Новониколаевска, а также в Тобольский и Тюменский уезды. Неизвестно, как сложилась бы в дальнейшем судьба курганских крестьян, если бы вопрос об их бедственном положении не был поставлен на государственном уровне. Сделал этот шаг директор союза маслодельных артелей А.Н. Балакшин, который в конце лета съездил в Санкт-Петербург для переговоров с главноуправляющим землеустройством и земледелием А.В. Кривошеиным. Реакцией власти стало командирование в Сибирь инспектора сельского хозяйства для организации помощи населению.
Ко времени совещания, проведенного инспектором, на местах уже были подготовлены цифры, определявшие потребность в недостающих семенах озимой ржи, продовольственного хлеба и сена для скота, а именно: на посев озимой ржи требовалось 223 750 пудов; на продовольствие, начиная с сентября, - 1 875 тыс. пудов для 279 963 едоков; сена - 12 403 тыс. пудов, из которых по собранным сведениям самим населением в разных местах вне губернии заготовлено 2 933 тыс. пудов; на посев яровых полей- 512 тыс. пудов пшеницы и 293 тыс. пудов овса. Курганцы ждали, что командированное правительством лицо приедет во всеоружии полномочий и немедленно решит вопрос о размерах и виде помощи. Действительность не оправдала этих надежд [3].
Если же характеризовать меры непосредственной помощи, то выглядели они так: на станцию Курган было доставлено для населения 150 тыс. пудов озимой ржи, заготовленной организацией переселенческих складов. Рожь эта раздавалась тем сельским обществам, которые приняли согласие взять зерно в счет платы за участие в предстоящих общественных работах. Эту рожь крестьянам поставили по заготовительной цене - 1 руб. 10 коп. за пуд. Такая же цена была и на местном рынке, но на рожь не семенную, а главным образом взятую из хлебозапасных магазинов и продаваемую для обмена на семенную. Но семенной ржи на местном рынке не было, и крестьяне, по разным соображениям отказавшиеся от предложенной им ссуды, тщетно, чуть не со слезами, упрашивали председателя съезда продать им из доставленной ржи хоть немного для посева. Председатель съезда, лично руководивший выдачей ссуд, был неумолим в своей логике: «Вам предлагали, не желаете - пеняйте на себя».
Далее шла операция по выдаче сена, заготовленного переселенческой организацией; его предполагалось выдать на Курганский уезд 1 миллион пудов. Заготовка сена производилась хозяйственным способом в Томской губернии. Было известно, что эта заготовка с прессованием обходилась в 50 коп. за пуд. Однако населению сено отпускали по 35 коп. за пуд, приняв перерасход на счет убытков государственного казначейства. Сено, как и рожь, предполагалось отпускать по договорам, причем 10 коп. с пуда крестьяне должны были заплатить немедленно в момент получения ссуды, а 25 коп. с каждого пуда предоставлялись в многолетнюю рассрочку. Но до 25 августа не было получено ни одного договора о ссудах на таких условиях, крестьяне отказывались или по неимению денег для первого взноса, или считая цену в 35 коп. за пуд очень завышенной. Цена, «установленная» властью, действительно была высокой. В Тюмени, например, сено на базаре продавали по 25 коп. за пуд и при этом прогнозировали дальнейшее снижение цены, а предприимчивые перевозчики предлагали сено «с доставкой» в Курган за 27 коп. с пуда.
Реализация на практике идеи отработок за предоставленную правительством помощь также столкнулась с массой проблем. В Кургане циркулировали слухи о разных недоразумениях, возникавших у рабочих, увезенных в пустынную тайгу с руководителями работ. Одному из них пришлось спасаться, выпрыгнув через окно, от набросившейся на него с косами и топорами разъяренной толпы недовольных. Аналогичные слухи ходили о партиях, работавших на севере, в тобольских урманах [4].
Как уже отмечалось выше, помощь семенами и продовольствием организовывалась на новых началах: не в виде ссудной помощи как прежде, а выдачей в счет платы за участие в общественных работах. В Курганском уезде к концу августа эти общественные работы еще не были начаты, и о них нельзя было собрать никаких сведений. Но из Курганского уезда до 400 чел. ушло на общественные работы в Тюменский уезд. Поденная плата на всех общественных работах определялась по 1 руб. мужчине и по 60 коп. женщине на их харчах. При передвижении рабочих издалека выдавались так называемые путевые деньги в размере 1 руб. за каждые 50 верст пути. В Курганском уезде разных мелких общественных работ было запланировано на 500 тыс. руб. Наконец, в ход был пущен, как мера экстренной помощи населению, хлеб из 2-й половины запаса хлебозапасных магазинов. Разрешение на его выдачу было получено. Этого хлеба по уезду насчитывалось 779 тыс. пудов.
В самых общих чертах фактическая сторона помощи нуждающимся выглядела так. Но интерес представляет, конечно же, и бытовая сторона дела. Сложно сказать, в частности, какая категория хозяев наиболее пострадала от неурожаев? Какие крестьяне оказались наиболее стойкими к чрезвычайной ситуации? Какие местности в зависимости от величины и качества наделов более пострадали? Принимая во внимание то обстоятельство, что периодичность неурожаев в Западной Сибири была весьма высокой, любопытно было бы выяснить, где и какие меры принимало население заблаговременно для борьбы с неурожаями, и велась ли такая работа вообще? Исследовав эту «бытовую» сторону вопроса, может быть, возможно было бы связать в цепь ряд явлений: беззаботность населения; отсутствие в массах предвидения тяжелых лет; дешевая, в изобилии предлагаемая водка; слабая организация народного образования; отсутствие всякой общественной и просветительной деятельности в деревне; опека населения начальством, осуществляемая и в данном случае организации продовольственной помощи. Но, к сожалению, и 1911 голодный год не внес ничего нового в вопрос о предупреждении голода, ибо никто и не помышлял в нем разбираться и по «горячим следам» собирать материал для его изучения. Следует сказать, что в том же году от сильных неурожаев пострадали и другие местности губернии, например Ишимский и Ялуторовский уезды [5].
Сама по себе идея организации работ в обмен на необходимое продовольствие выглядела достаточно туманно и неопределенно. Деятельность местной администрации к концу летнего сезона оставалась на первой стадии: с одной стороны, заготавливался хлеб для продовольствия, с другой – проектировались общественные работы. По схеме организации, продиктованной Петербургом, на общественные работы не планировались финансовые затраты, но не было конкретно понятно, как будет оплачиваться труд заведующих работами?
Таким образом, в статье предпринята попытка охарактеризовать меры, направленные на преодоление негативных последствий разразившегося на юге Тобольской губернии неурожая. Ситуация имела действительно крайне острый характер: массовое сокращение поголовья скота, отсутствие урожая зерна, необходимого как для текущего производства ключевого продукта питания населения – хлеба, так и для проведения посевной кампании, могли поставить жителей края на грань не только обнищания, но и физической гибели. Следует справедливо подчеркнуть, что не разразиться настоящему голоду в регионе помогли все же в большей степени усилия центральной власти.
Ссылки:
-
1. Сунгуров П.А. Полиция Тобольской губернии в 1867–1917 гг. : дис. … канд. ист. наук. Тюмень, 2014. С. 179.
-
2. Сибирские вопросы. 1911. 8 октября.
-
3. Там же.
-
4. Там же.
-
5. Там же.
Список литературы Борьба с голодом в Курганском уезде Тобольской губернии (1911 г.)
- Сунгуров П.А. Полиция Тобольской губернии в 1867-1917 гг.: дис.. канд. ист. наук. Тюмень, 2014. С. 179.
- Сибирские вопросы. 1911. 8 октября.