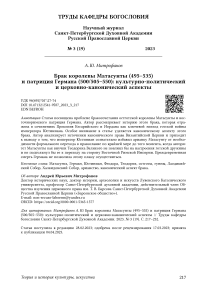Брак королевы Матасунты (495-535) и патриция Германа (500/505-550): культурно-политический и церковно-канонический аспекты
Автор: Митрофанов А.Ю.
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теория и история культуры, искусства
Статья в выпуске: 3 (19), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме бракосочетания остготской королевы Матасунты и восточноримского патриция Германа. Автор рассматривает историю этого брака, которая отражена в сочинениях Прокопия Кесарийского и Иордана как ключевой эпизод готской войны императора Юстиниана. Особое внимание в статье уделяется каноническому аспекту этого брака. Автор анализирует источники канонического права Византийской Церкви и приходит к выводу о том, что император Юстиниан сознательно избавил арианку Матасунту от необходимости формального перехода в православие по крайней мере до того момента, когда авторитет Матасунты как внучки Теодориха Великого не повлиял бы на настроения готской дружины и не подтолкнул бы ее к переходу на сторону Восточной Римской Империи. Преждевременная смерть Германа не позволила этому плану осуществиться.
Матасунта, герман, юстиниан, феодора, теодорих, остготы, гунны, лаодикийский собор, халкидонский собор, арианство, канонический аспект брака
Короткий адрес: https://sciup.org/140301597
IDR: 140301597 | УДК: 94(495)"05":27-74 | DOI: 10.47132/2541-9587_2023_3_217
Текст научной статьи Брак королевы Матасунты (495-535) и патриция Германа (500/505-550): культурно-политический и церковно-канонический аспекты
About the author: Andrey Yurievich Mitrofanov
Doctor of Historical Sciences; Doctor of History, Archeology and Arts of the Louvain Catholic University; Professor at the St. Petersburg Theological Academy; full member of the T. V. Barsov Society for the Study of Church Law (“Barsov Society”) of the St. Petersburg Theological Academy.
The article was submitted 28.02.2023; approved after reviewing 17.03.2023; accepted for publication 04.04.2023.
Среди драматических событий, сопровождавших кровопролитную вой ну Юстиниана и Феодоры с готами в 535–552 гг., можно обнаружить романтический эпизод, связанный с обстоятельствами бракосочетания остготской (остроготской) королевы Матасунты и выдающегося византийского военачальника, двоюродного брата Юстиниана, бывшего консула и патриция Германа1.
Еще в 536 г. Матасунта, дочь остготской королевы Амаласунты (526–534) и вестгота (визигота) Эвтариха, консула и сына по оружию (filius per arma) императора Юстина I (518–527)2, приходившаяся по матери внучкой Тео-дориху Великому (470–526)3, была насильно выдана замуж за узурпатора Витигеса4. Витигес был ставленником готской дружины, т. н. «национал-патриотической партии», представители которой были недовольны романофильской политикой королевы Амаласунты и ее преемника, короля Тео-дохада (534–536), но при этом стремились обеспечить Витигесу видимость легитимности при помощи его брака с внучкой Теодориха. Как сообщает Прокопий Кесарийский, Теодохад был убит одним из дружинников Витигеса, неким Оптарисом, из-за того, что выдал замуж за другого невесту Оптариса, славящуюся красотой и богатством. Рассказ этот перекликается с повествованием Прокопия об аналогичном убийстве — готского короля Хильдебада (540–541) гепидом из его дружины. Это может свидетельствовать об использовании историком некоего готского эпического предания в качестве сюжетной основы для описания политической борьбы у остготов.
Итак, Витигес женился на Матасунте, являвшейся, по сообщению Прокопия, «уже взрослой девушкой» (παρθένον τε καὶ ὡραίαν ἤδη οὖσαν), «против ее воли» (γυναῖκα γαμετὴν οὔτι ἐθελούσιον ἐποιήσατο) и тем самым укрепил свой авторитет родством с Теодорихом (ὅπως δὴ βεβαιοτέραν τὴν ἀρχὴν ἕξει τῇ ἐς γένος τὸ Θευδερίχου ἐπιμιξίᾳ)5. В связи с этим вполне достоверной кажется другая информация в труде Прокопия: о том, что во время осады Равенны войсками Велизария в 540 г. Матасунта распорядилась поджечь государственные зернохранилища, вероятно, раздав поджигателям деньги, тайно полученные для этого от Велизария (καὶ ἐπεὶ σῖτον πολὺν ἐν δημοσίοις οἰκήμασιν ἔτι ἐντὸς Ραβέννης ἀποκεῖσθαι ἔγνω, τῶν τινα ταύτῃ ᾠκημένων ἀνέπεισε χρήμασι ταῦτα δὴ τὰ οἰκήματα ξὺν τῷ σίτῳ λάθρα ἐμπρῆσαι. φασὶ δὲ καὶ γνώμῃ Ματασούνθης, τῆς Οὐιττίγιδος γυναικὸς, ταῦτα ἀπολωλέναι), что в итоге вынудило защитников готской столицы быстро капитулировать6. Матасунта, вероятно, еще будучи женой Витигеса, вполне определенно занимала провизантийскую политическую позицию и принимала посильное участие в борьбе на стороне Юстиниана и Феодоры.
Брак Матасунты и Витигеса был бездетным7. После капитуляции короля Ви-тигеса (536–540) в 540 г. Матасунта вместе с нелюбимым мужем и королевской сокровищницей была отправлена Велизарием в Константинополь. Там вскоре после кончины Витигеса, последовавшей в 542 г., примерно в 549/550 г. она вышла замуж за кузена императора Юстиниана патриция Германа8. Год бракосочетания устанавливается благодаря сообщению Прокопия Кесарийского, связывающего этот брак с военно- политическими планами Германа, готовившего в 550 г. масштабный поход в Италию с целью разгрома готского короля Тотилы (541–552)9). Биография Германа, победителя антов и африканского узурпатора Стозы, достаточно хорошо известна, в частности благодаря исследованиям П. В. Шувалова, который приписывает авторство маневра гиперкерастов в сражениях при Даре (530 г.) и Скале Ветерес (532 г.), а также разделы «Стратегико-на» Псевдо- Маврикия, описывающие этот маневр, именно Герману10.
После поражения и пленения Витигеса Матасунта жила в Константинополе на правах почетной пленницы, а в 549/550 г. стала женой Германа, который, по сообщению готского (или аланского) историка Иордана, даровал ей титул патриции (Germanus patricius… eam in conubio sumens patriciam ordinariam fecit)11. Как указывал Джон Роберт Мартиндейл, подобное замечание Иордана не совсем понятно, ибо патрицианский титул должен был достаться Матасун-те после брака с Германом автоматически, без специального провозглашения12; возможно королева стала патрицией еще до формального заключения брака с Германом по его протекции. В самом начале итальянской кампании Герман скоропостижно скончался, оставив свою жену беременной сыном, которого после рождения нарекли Германом в честь доблестного отца. Вполне вероятно, что впоследствии на внучке Матасунты, дочери ее сына Германа13, был женат старший сын и соправитель императора Маврикия (582–602), август Феодосий, по всей видимости, трагически погибший осенью 602 г., что позднее спровоцировало появление в Эдессе самозванца Лже- Феодосия, пользовавшегося покровительством персидского шаха Хосрова II Парвиза (591–628)14. Впрочем, как полагал Пауль Шпек, нельзя исключать, что Феодосий действительно спасся и воевал затем на стороне персов против узурпаторов Фоки и Ираклия, в то время как легенда об убийстве Феодосия была придумана в 630-е гг. придворным историком императора Ираклия (610–641) Феофилактом Симокаттой для обоснования права Ираклия и его династии на престол15.
Причины брака Германа и Матасунты, на первый взгляд, достаточно ясны и вполне определенным образом изложены Прокопием. Перед вторжением в Италию Герман нуждался в Матасунте — внучке Теодориха Великого — как в политическом символе, вокруг которого можно было бы собрать колеблющихся в неприятельском стане и так привлечь готов на сторону Империи. «Тогда Германа охватило великое честолюбие, он захотел увенчать себя победой над готами, чтобы за ним в будущем осталась слава, что для Римской империи он сохранил Ливию и Италию… Прежде всего (так как у него давно уже умерла жена по имени Пассара) он взял себе в законные жены Матасунту, дочь Амаласунты и внучку Теодориха, так как Витигес уже умер. Он надеялся, что если вместе с ним при войске будет она в качестве его жены, то готы естественно постыдятся поднять оружие против нее в память владычества Теодориха и Аталариха» (Τότε δὴ Γερμανὸν φιλοτιμία πολλή τις ἔσχε, Γότθων τὴν ἐπικράτησιν ἀναδήσασθαι, ὅπως οἱ Λιβύην τε καὶ Ἰταλίαν ἀνασώσασθαι περιέσται τῇ Ρωμαίων ἀρχῇ… καὶ πρῶτα μὲν (ἐτετελευτήκει γάρ οἱ πολλῷ πρότερον ἡ γυνὴ Πασσάρα ὄνομα) Ματασοῦνθαν ἐν γαμετῆς ἐποιήσατο λόγῳ, τὴν Ἀμαλασούνθης τῆς Θευδερίχου θυγατρὸς παῖδα, Οὐιττίγιδος ἤδη ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθέντος. ἤλπιζε γὰρ, ἢν ξὺν αὐτῷ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἡ γυνὴ εἴη, αἰσχύνεσθαι, ὡς τὸ εἰκὸς, Γότθους ὅπλα ἐπ’ αὐτὴν ἀνελέσθαι, ἀναμνησθέντας τῆς Θευδερίχου τε καὶ Ата^арСхои арх^с.), — пишет Прокопий16.
Подобный брак создавал для Германа, как казалось, важный политический капитал, ибо кузен императора, женившись на наследнице престола остготского королевства, мог претендовать как на власть над Италией, от которой в свое время предпочел благоразумно отказаться Велизарий, так и на то, чтобы в перспективе стать преемником Юстиниана, после кончины Феодоры в 548 г. оставшегося без наследников. Однако приведенное выше замечание Иордана о том, что Герман «сделал Матасунту настоящей патрицией» (patriciam ordinariam fecit) заставляет нас подвергнуть критике сообщение Прокопия, согласно которому причина брака Германа и Матасунты заключалась исключительно в политическом расчете Германа (и Юстиниана) на внесение раскола в ряды готской дружинной знати. Мы можем предположить, что в браке с Германом в неменьшей степени была заинтересована и сама Матасунта. Она как бывшая готская королева хотела гарантировать свое положение в Константинополе приобретением особых римских титулов и имела все основания рассматривать брак с Германом как ступень для достижения власти над Италией и племенем своего великого деда, а в перспективе могла надеяться вместе со своим мужем и на императорскую порфиру. Дед Матасунты, Теодорих Великий, как римский консул был кооптирован в состав восточно-римской аристократии, а его внучка, став женой Германа, вполне могла рассчитывать на то, чтобы при удачном стечении обстоятельств занять место императрицы Феодоры.
Брак Германа и Матасунты, безусловно, соответствовал политическим традициям предыдущего V столетия. Чаще всего, в условиях краха Западной Римской Империи и политического ослабления Восточной, они определялись практикой заключения семейных союзов между представительницами римской аристократии и варварскими конунгами. В качестве примеров подобных браков можно привести союз пленной Галлы Плацидии, дочери Феодосия I Великого (379–395), и вестготского короля Атаульфа (410–415), преемника грозного Ала-риха (382–410), фантастическую историю обручения дочери Галлы Плацидии, августы Юсты Граты Гонории, с гуннским царем Аттилой (434–453), обручение и последующее запоздалое бракосочетание дочери Валентиниана III (425–455) Евдокии и вандальского короля Гунериха (477–484), преемника великого Ген-зериха (428–477), или же, наконец, брак императрицы Ариадны с вождем исав-рийцев Тарасикодиссой, ставшим императором Зеноном (474–475; 476–491). Бывали, правда, и обратные примеры: так, в частности, сын Феодосия I Великого (379–395), император Аркадий (395–408), женился на дочери франкского военачальника на римской службе, Флавия Баутона, вошедшей в историю под именем императрицы Элии Евдоксии. Эта восточноримская императрица, по словам арианского церковного историка Филосторгия, отличавшаяся «отвагой, свой ственной варварам»17), распоряжалась церковными и государственными делами в соответствии с теми свободолюбивыми принципами, которые нашли отражение в произведениях германской эпической и исторической традиции в образах Фредегонды, Брунхильды, Климхильды или Гудрун. Это, вероятно, и стало причиной ее знаменитого конфликта с Иоанном Златоустом.
Подобно Галле Плацидии и Ариадне, которые вступили в брак с варварскими вождями, еще не будучи царствующими императрицами, Герман женился на Матасунте, не будучи ни цезарем, ни тем более августом, хотя, как уже было отмечено, подобный брак открывал перед ним блестящие политические перспективы. Матасунта вышла замуж за Германа, уже обладая королевским титулом, который в представлениях ромеев, разумеется, не был равен императорскому, но все-таки гарантировал ей определенное общественнополитическое положение, облегчавшее вступление в родство с императорской фамилией. В случае с Матасунтой Герман как член римской императорской династии женился не на какой-то обычной варварке, а на представительнице готской королевской династии, с формальной точки зрения включенной в имперскую политическую элиту еще при Теодорихе. По заключении брака Герману предстояло завоевать наследство своей жены для Империи. Потомки Германа и Матасунты в перспективе должны были объединить своей кровью императорскую династию Юстиниана и готский королевский род Теодориха, что открывало для них дорогу к императорской порфире. Как писал Иордан, «император сочетал браком Матасунту со своим братом патрицием Германом. От них после смерти отца Германа родился сын, также Герман. В этом браке род Анициев, соединенный с ветвью Амалов, представил Господу надежду обоих династий» (Mathesuentham vero iugalem eius fratri suo Germano patricio coniunxit imperator. De quibus post humatum patris Germani natus est filius idem Germanus. In quo coniuncta Aniciorum genus cum Amala stirpe spem adhuc utriusque generi domino praestante promittit)18.
С нашей точки зрения очевидно, что политический расчет Германа (и Юстиниана) на то, что брак с Матасунтой и присутствие готской королевы в вой сках Германа повлечет за собой переход части готов на строну Империи, опирался на переоценку т. н. мифа об Амалах (cum Amala stirpe spem), который когда-то определял политическую систему остготского племенного союза, но уже в момент свержения готами короля Теодохада (534–536) продемонстрировал свою полную историческую несостоятельность19. Литературные следы этого мифа, содержащиеся в сочинении Иордана, безусловно, представляют собой выдержки из «Готской истории» Кассиодора, на страницах которой этот патриций, служивший готским завоевателям, прославлял род Теодориха и подчеркивал, что благодаря ему готы стали историческими наследниками древних римлян. В отличие от прагматика Прокопия, рассматривавшего брак Германа и Матасунты исключительно с точки зрения его военно- политической целесообразности, Иордан возлагает надежду на то, что этот брак, соединяющий династию Юстиниана и род Амалов, станет исполнением надежд рода Амалов на полную социальную интеграцию готов и имперской аристократии. Хервиг Вольфрам видит в этом исключительно «амальско- легитимистскую пропаганду», рассчитанную как на италийских эмигрантов в Константинополе, так и на ромейских перебежчиков, служивших в вой ске Тотилы20. Смысл этой пропаганды в свое время сводился к утверждению короля Теодохада, высказанному им в письмах Юстиниану, о том, что «с этой империей Амалы всегда состояли в дружбе» (cum illo imperio amicitiam Hamalos semper habuisse)21. В то же время сами истоки предания или мифа об Амалах, бесспорно, следует искать в политических событиях V столетия, когда остготы являлись частью гуннской кочевой державы и подчинялись гуннским вождям.
Хервиг Вольфрам приводит генеалогическое древо Амалов, реконструированное благодаря сведениям Иордана, сохранившим для нас легенды об «Origo Gothorum», а также записанные Кассиодором остготские эпические сказания22. Древо это свидетельствует, в частности, о том, что до Теодориха Великого как минимум три поколения остготских конунгов, начиная от победителя венедов Винитария и заканчивая Валамиром († 468/469), были данниками гуннов, а родственница Винитария Вальдамерка около 376 г. даже стала женой гуннского князя Баламбера, разгромившего со своими ордами «державу» легендарного Германариха († 375)23). Сам Теодорих был сыном конунга Тиудимира († 474) от готской наложницы Эрелеувы (Эрелиевы) Евсебии (причем Хервиг Вольфрам допускет, что происхождение Эрелеувы Евсебии было таким же, как матери короля вандалов Гензериха — из среды римских провинциалов)24. Однако нельзя исключать, что матерью и бабушкой Тиудимира, соответственно, женами Ван-далария и Винитария, были женщины, имевшие вообще не готское, а аланское или гепидское происхождение.
Благодаря Иордану известно, в частности, что принц Андагис из рода Амалов, сразивший по преданию вестготского короля Теодерида в битве на Каталаунских полях, породнился с аланами (Hic Theodoridus rex dum adhortans discurrit exercitum, equo depulsus pedibusque suorum conculcatus vitam maturae senectutis conclusit. Alii vero dicunt eum interfectum telo Andagis de parte Ostrogotharum, qui tunc Attilanis sequebantur regimen… et certi Alanorum cum duce suo nomine Candac Scythiam minorem inferioremque Moesiam acceperunt… filio Andages fili Andele de prosapia Amalorum descendente25). Остготские конные отряды под командованием братьев- конунгов Валамира, Туидимира и Ви-димира принимали участие в походе Аттилы в Галлию и в битве на Ката-лаунских полях26. Современные научные данные позволяют предположить, что в действительности эта битва была выиграна гуннами, о чем свидетельствует беспрепятственное отступление вой ск Аттилы к Рейну. И хотя гуннская держава Аттилы распалась в результате поражения его сына Эллака в битве при Недао в 454 г., готы по-прежнему оставались соседями гуннов и в 460-х гг. принимали участие в военных кампаниях гуннского князя Денгизиха (еще одного сына Аттилы) как на стороне гуннов, так и на стороне восточных римлян. Несмотря на то, что мать Матасунты, королева Амаласунта была дочерью Теодориха Великого от сестры франкского короля Хлодвига, католички Аудофледы, отличительными особенностями готской аристократии и вообще готов вплоть до гибели их Италийского королевства в 552 г. были активное сопротивление романизации и исключительная верность готскому языку и национальным готским традициям27, которые, надо полагать, несли на себе глубокий след, оставленный периодом гуннского владычества.
Как отмечали Отто Менхен- Хельфен и Хервиг Вольфрам, знаменитая готская легенда о происхождении гуннов, сочетающая ощущение родственной близости остготов к гуннам и одновременно чувство глубокого отвращения к ним, является ярким свидетельством гунно- готского симбиоза уже на ранней стадии появления гуннов в степях Северного Причерноморья во второй половине IV в.28 Эта легенда пересказывается Иорданом как легенда о Haliuurunnae — колдуньях, которые были изгнаны королем гутонов (готских предков) конунгом Филимером и затем от соития со злыми степными духами породили гуннов. С нашей точки зрения, она была наиболее точно интерпретирована Л. Н. Гумилевым, который увидел в этой легенде мифологическое описание системы брачного права гуннов времен Баламбера29. «Достаточно представить себе отступавшую с боями орду, которая наверняка теряла обозы, чтобы понять, что женщин хунны в достаточном количестве привезти с Тарбагатая не могли», — писал исследователь, однако делал на этом основании опрометчивый вывод о метисации хунну с угорскими племенами в период их миграций по евразийским степям30, в то время как на самом деле легенда о Haliuurunnae, по всей видимости, отражает реалии даннических отношений, установившихся между победителями гуннами и побежденными аланами и остготами в донских степях и в степях Северного Причерноморья. Покорившие аланов и разгромившие Германариха в 370-х гг. гунны, потомки древних хунну, которых современный востоковед Кристофер Беквис признает азиатскими скифами, т. е. саками31, систематически брали себе жен и наложниц из среды завоеванных остготов в качестве дани и таким образом упрочили единство обоих этносов, что со временем облегчило Аттиле создание его «империи». К подобной же практике в конечном счете прибег и Герман, женившийся на пленной готской королеве. Впрочем, логично предположить, что именно Матасунта как живая носительница гунно- готских династических традиций использовала все свое влияние для заключения подобного брака.
Как справедливо отмечал Фридрих Лоттер, гуннская политическая культура оказала во многом определяющее влияние на остготов в период их позднего этногенеза32. Достаточно вспомнить, что изображение Теодориха Великого на золотом тремиссе из собрания Национального Музея (Palazzo Massimo) в Риме может быть интерпретировано как свидетельство существования у Амалов позднесарматского и гуннского обычая деформации черепа33. В свете этого обстоятельства знаменитая борьба между остготами и сарматами в Паннонии после распада державы Аттилы представляется не столько завершением вековой борьбы между восточными германцами и ираноязычными степными кочевниками, начавшейся еще в эпоху Константина Великого (306– 337)34, сколько сведением счетов между различными «улусами» созданной Аттилой степной «империи». В 467/468 г. остготский конунг Валамир покорил сарматских садагаров во Внутренней Паннонии, затем нанес поражение орде сына Аттилы Денгизиха, и, наконец, в 469 г. одолел целую коалицию сарматских царей Бевки и Бабая, к которым примкнули северопаннонские свевы Хунимунда, герулы Алариха, скиры Эдики и Хунульфа и которым оказывал военную помощь восточно- римский император Лев I (457–474)35. Эти события на короткое время превратили остготов в гегемонов Восточной Европы.
Имел ли брак Германа и Матасунты какие-либо политические последствия? Если и имел, то не в остготской Италии, а в Сасанидском Иране. Хосров I Ануширван (532–579), без сомнения, знавший об этом браке от лазутчиков и посланников Тотилы, в 550-е гг. продолжал упорную борьбу против Юстиниана за Лазику, чем с объективной точки зрения помогал готскому сопротивлению.
Нельзя забывать и о том, что, становясь женой Германа, Матасунта включалась в предстоящую борьбу за наследство Юстиниана, которое, возможно, не досталось ей исключительно вследствие скоропостижной кончины мужа. Сопоставляя историю брака Матасунты и Германа с вышеупомянутыми примерами смешанных браков между римскими принцессами и варварскими конунгами, имевшими место в V в., мы должны подчеркнуть то обстоятельство, что союз Матасунты и Германа был как бы опровержением предшествующей политической традиции. Атаульф и Гунерих женились на римских пленницах, Юста Грата Гонория и Ариадна предлагали себя могущественным варварским вождям в поисках политической выгоды, ныне же, при Юстиниане, благодаря доблести солдат Велизария колесо Фортуны начало вращаться в другую сторону, и теперь уже кузен Юстиниана женился на пленной готской королеве, пусть даже ее плен был для нее радостным избавлением от ненавистного Витигеса. Впрочем, о том, что Матасунта не любила Вити-геса, вышла за него против своей воли и содействовала Велизарию во время осады Равенны, мы узнаем только из византийских источников, подвластных вполне определенной политической романо-амальской тенденции. Мы можем лишь утешать себя тем, что готские источники, описывающие войну в Италии с готской стороны, по понятным причинам до нас не дошли, а значит, компенсировать недостаток и односторонность информации невозможно. Могли ли столь экстравагантные для современников исторические события, как смешанные браки между римскими принцессами и варварскими вождями, повлиять на решение вдовствующей королевы Матасунты и Германа заключить брак, который радикальным образом менял соотношение политических сил, установившееся в V в.?
Брак Матасунты и Германа как политический акт в наибольшей степени напоминал обручение Юсты Граты Гонории, носившей на момент отправки своего скандального письма и перстня Аттиле титул римской августы по праву рождения. Матасунта также по праву рождения была готской королевой. Аттила должен был завоевать мечом владения своей царственной невесты точно так же, как и Герман был призван отвоевать италийское наследство своей супруги. Разница заключается лишь в том, что с формальной точки зрения Юста Грата Гонория не была пленницей своего жениха, но страстно желала ей стать, а Матасунта ею была и, вероятно, тяготилась подобным положением. С этой точки зрения статус Матасунты в Константинополе при дворе Юстиниана в большей степени напоминал положение Евдокии в Карфагене при дворе Гензериха. Матасунта в юные годы была насильно (если верить Прокопию) выдана замуж за Витигеса подобно Евдокии, которая также против своей воли (и вопреки обручению с молодым Гунерихом) стала женой цезаря Палладия, сына императора Петрония Максима (455 г.). Герман до брака с Матасунтой был женат на Пассаре, к 549 г. скончавшейся, точно так же, как и Гунерих женился первым браком на дочери вестготского короля Теодориха I (418–451), которую по приказу отца Гунериха Гензериха обвинили в приготовлении яда, после чего отрезали нос и уши и отправили к отцу в Галлию только ради того, чтобы «оптяпать» брак Гунериха с юной римской принцессой.
Если обстоятельства брака Гунериха и Евдокии (так же, как история любви Атаульфа и Галлы Плацидии) вполне ясны и хорошо известны из дошедших до нас источников, проблема историчности и достоверности истории обручения Юсты Граты Гонории и Аттилы довольно долго привлекает внимание исследователей и провоцирует бесконечные дискуссии36. Как уже отмечалось, политическая культура гуннов предполагала установление брачных союзов со знатными представительницами покоренных народов (или тех народов, которые еще только предстяло покорить). Подобные браки позволяли Аттиле включать племена, подвластные очередной жене, в сферу своего военнополитического влияния. Поэтому в демарше Юсты Граты Гонории нет ничего удивительного. Брачная политика Баламбера и Аттилы дает нам массу примеров подобных союзов; жертвой одного из них, возможно, в итоге стал сам Аттила. При этом важно подчеркнуть, что Римское брачное право периода принципата, напротив, не признавало браков римских магистратов с варварскими правительницами, о чем свидетельствует общественное осуждение интимных связей Юлия Цезаря и Марка Антония с египетской царицей Клеопатрой или же романа императора Тита (79–81) с иудейской царицей Береникой.
Каковы же были церково-канонические последствия бракосочетания Ма-тасунты и Германа? Само собой разумеется, что Матасунта как внучка Теодо-риха Великого и готская королева была арианкой, что, конечно же, являлось препятствием для ее брака с омоусианином Германом. Византийское каноническое право, в царствование Юстиниана инкорпорированное в канонический сборник (т. н. Синагогу) будущего Константинопольского патриарха Иоанна Схоластика (565–577), выработало вполне определенное отношение к бракам членов господствующей Церкви с еретиками, каковыми с точки зрения Православной Церкви считались ариане.
Древнейшие правила, запрещавшие браки православных с еретиками, содержались еще в «Понтийском сборнике» IV в. В частности, Лаодикийский Собор десятым и тридцать первым правилами запретил браки православных с еретиками, причем тридцать первое правило содержало оговорку, которая допускала совершение подобных браков «авансом», в том случае, если жених или невеста, принадлежавшие к еретическому сообществу, давали публичное обещание после заключения брака присоединиться к Православной Церкви. Примерно столетие спустя Халкидонский Собор 451 г. четырнадцатым правилом запретил чтецам и певцам заключать браки с иноверными женщинами, под которыми подразумевались не только язычницы, но и еретички. Дети, рожденные в подобных браках, должны были воспитываться в православной вере, а браки взрослых детей от подобных браков, заключавшиеся с еретиками, дозволялись только при условии обещания еретической стороны принять православную веру.
В соответствии с седьмым правилом I Константинопольского Собора 381 г. ариане должны были приниматься в общение с Православной Церковью через таинство миропомазания. Подобная практика сохранялась в отношение ариан и позднее. Вышеуказанные канонические постановления получили при Юстиниане силу государственного закона. В частности, в конституции от 18 октября 530 г., изданной на греческом языке и адресованной префекту претория Юлиану, Юстиниан повелел законодателько запретить заключение браков, которые были до этого запрещены правилами Церкви, а детей, рожденных в подобных браках, император повелел считать незаконнорожденными, что по римскому праву влекло за собой значительную потерю прав состояния37. Следовательно, перед бракосочетанием (или же в крайнем случае вскоре после него) Матасунта должна была принять омоусианство и перейти в православие через миропомазание несмотря на то, что отречение от арианской веры, которой придерживался Теодорих и его преемники, могло серьезно дискредитировать Матасунту в глазах наиболее непримиримых представителей готской дружинной знати, и, следовательно, ослабить эффект от присутствия Матасунты в войсках Германа, на который рассчитывали ромейский военачальник и, вероятно, сам Юстиниан. Кроме того, массы готских дружинников в эту эпоху уже отвыкли от традиций женского правления, существовавших, например, у евразийских кочевников: сарматов и сяньбийцев38, что привело к трагическому финалу мать Матасунты, королеву Амаласунту.
Источники не сохранили никаких подробностей, связанных с частной жизнью Матасунты. Для Юстиниана она так и осталась инструментом, удобным для осуществления военно-политической экспансии в Италии. Для Тотилы и преданных ему готов она была марионеткой в руках жестокого противника. С нашей точки зрения очевидно, что, если Матасунта оставила веру своего великого деда и приняла омоусианство, т. е. доктрину господствующей Церкви, тем самым она отсекла все связи со своим воюющим против Империи народом, решительно перешла в лагерь ромеев, отныне связав как свое собственное будущее, так и будущее своего сына с правящей династией Юстиниана. В силу данного обстоятельства брак Германа и Матасунты не оказал никакого политического влияния на ход и характер боевых действий в Италии. Это могло произойти не столько из-за скоропостижной кончины Германа, сколько вследствие неготовности массы готских дружинников, присягнувших своему бывшему сотрапезнику Тотиле, признать своей королевой внучку Теодориха Великого, которая предала веру отцов. По нашему мнению, это обстоятельство не только свидетельствует о закоренелой приверженности массы готов арианской национальной Церкви (ведь в конечном итоге Матасунта могла в случае политической необходимости вернуться к арианству, — Равенна «стоит мессы»!), но в первую очередь является следствием тотальной дискредитации в готском обществе рода Амалов. Отвергая власть Амалов, готская дружина не только отрекалась от политики Амаласунты и Те-одохада, связанной с попыткой культурной и социальной романизации готов, но прежде всего порывала с гуннскими политическими и культурными традициями, предполагавшими снисходительное и прагматическое отношение к Восточной Римской Империи, носителями которых был Теодорих Великий и его предшественники. Фанатизм Тотилы и его сторонников предопределил их решительное поражение.
Однако, рассматривая церковно-канонический аспект брака Матасунты и Германа, приходится признать, что наши основные источники, объясняющие подоплеку этого союза — как Иордан, так и Прокопий — дружно хранят молчание тогда, когда логика их повествования, казалось бы, требует от них панегирика в честь готской королевы, оставившей арианское злочестие и принявшей православную веру. Ни Иордан, ни Прокопий ни единым словом не упоминают о переходе Матасунты в лоно имперской Церкви, хотя само по себе обращение внучки Теодориха в православие должно было бы восприниматься ими как важнейшее политическое и церковное событие и торжество Юстиниана над неприятелем, во всяком случае, как событие не менее важное, чем сам брак Матасунты с Германом. Можно, конечно, допустить, что переход Матасунты в православие представлялся Иордану и Прокопию чем-то само собой разумеющимся, и потому в целях краткости повествования он не был упомянут этими историками. Однако, по нашему мнению, более логично другое предположение.
Не является ли подобное молчание источников следствием того, что никакого перехода Матасунты из арианства в омоусианство на самом деле не было? Действительно, Юстиниан, понимая важное политическое значение предстоящего бракосочетания, мог ограничиться лишь требованием формального обещания готской королевы принять православие в будущем, что соответствовало бы букве церковных канонов (14 пр. Халкидонского Собора). Ибо Мата-сунта, преданная религиозным заветам своего деда, была для императора несравненно более ценным союзником в борьбе против Тотилы, чем Матасунта, отрекшаяся от арианской ереси, но проклятая за это своими соплеменниками.
К сожалению, нам точно не известно время кончины первой жены Германа, однако если Пассара отошла в мир иной задолго до появления в Константинополе горделивой готской королевы, покорившей сердце императорского кузена, в таком случае непонятное опоздание с заключением брака Матасунты и Германа (только в 549/550 г.) после смерти Витигеса (в 542 г.) могло бы получить объяснение, если мы допустим вмешательство в роман Матасунты и Германа императрицы Феодоры. Она, по всей вероятности, до самой своей кончины в 548 г. противилась этому браку, усиливавшему при дворе политические позиции Германа. Кроме того, Феодора, всей душой преданная миафизитскому богословию, на дух не переносила пропитанный влиянием арианской Церкви готский королевский двор и Матасунту как готскую королеву. Но если Матасунта в силу различных причин сохранила верность арианству, как же в таком случае воспринимал ее брак с Германом Римский епископ?
Папа Вигилий (537–555), посаженный на папский престол стараниями императрицы Феодоры и заставший в период своего понтификата бракосочетание Матасунты и Германа, никак не отреагировал ни на это незаурядное событие, ни на возможное принятие Матасунтой православной веры. Следовательно, переход готской королевы в православие, не замеченный не только Иорданом и Прокопием, но даже римским папой Вигилием, вероятнее всего, является историографическим мифом, основанным на интерпретации материалов церковного законодательства Юстиниана. В действительности же, брак Матасунты и Германа, ставший следствием острой военно- политической необходимости и, добавим, амбиций самой внучки Теодориха Великого, не пожалевшей ради их удовлетворения ни Равенны, ни сотни тысяч жизней своих соплеменников, породил канонический казус. Этот канонический казус заключался в сохранении Матасунтой своего арианского вероисповедания после бракосочетния с Германом, что было оправдано политическими целями Юстиниана и что соответствовало традициям смешанных браков с пленницами из иной этно-культурной среды, воспринятым под влиянием гуннов константинопольской дипломатией.
В заключение отметим следующее обстоятельство. Не исключено, что историю брака Матасунты и Германа почти восемьдесят лет спустя в качестве канонического и политического прецедента использовал император Флавий Ираклий (610–641). По сообщению патриарха Никифора, в 627 г. Ираклий организовал обручение своей дочери от первой жены Фабии, августы Епи-фании (Евдокии) с тюркским союзником, предположительно с каганом западных тюрков Тун Ябгу (618–630) (тенгрианином)39, а в 629 г. отправил дочь в Среднюю Азию40. Только гибель кагана избавила Епифанию от этого политического брака. В том же 629 г. Ираклий санкционировал брак своего сына от второй жены Мартины, глухонемого Феодосия, с дочерью персидского узурпатора Фаррухана Шахрбараза (629–630), принявшей в крещении имя Ника41. Этот брак скреплял военный союз между императором и новым персидским шахом, мечтавшим основать собственную династию. Как полагал А. А. Фролов, в действительности Ираклий пытался таким образом отстранить правящую на протяжении четырех столетий сасанидскую династию от управления страной и спровоцировать в Иране затяжную междоусобицу42. Десять лет спустя Ираклий под влиянием Александрийского патриарха Кира (и, по-видимому, императрицы Мартины) пытался выдать августу Епифанию замуж за арабского военачальника Амра (магометанина), захватившего к этому времени значительную часть Египта. Однако, к счастью для дочери Ираклия, его безумные планы так и не были реализованы.
Как справедливо отмечает Габриель Клингхардт, спустя более чем полвека потомок Ираклия император Юстиниан II Ринотмет (685–705; 711–711) заключил брак с сестрой хазарского кагана Ибузира Глявана Феодорой, которую, с нашей точки зрения, можно идентифицировать с хазарской ханшей Парсбит («Тигр»), упомянутой армянским историком Гевондом43. А император Лев III (717–741) женил своего сына Константина V Копронима (741–775) на хазарской княжне Чичак («Цветок»), которая в крещении приняла имя Ирина. Подобные эпизоды, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что брак Матасунты и Германа, задуманный Юстинианом, заложил основание длительной политической традиции бракосочетания наследников престола Восточной Римской Империи с представительницами варварских правящих династий.
Источники и литература
Список литературы Брак королевы Матасунты (495-535) и патриция Германа (500/505-550): культурно-политический и церковно-канонический аспекты
- Amm. Marc. — Ammiani Marcellini Res Gestae / Hrsg. von Victor Gardthausen. Vol. I-II. Leipzig, 1874.
- Cass. Var. — Cassiodori Senatoris Variae / Hrsg. von Theodor Mommsen. Berlin: Weidmann, 1894.
- Euseb. VC: — Eusebii Pamphili Opera Omnia: Vita Constantini // Patrologia Graeca / Par J.-P. Migne. Vol. XX, XXI, XXIV. Paris, 1857.
- Iord. Get. — Iordanis Getica. Auctores antiquissimi 5,1: Iordanis Romana et Getica / Hrsg. von Th. Mommsen. Berlin, 1882.
- Niceph. — Nikephoros, Patriarch of Constantinople. Short History. Text, Translation and Commentary by Cyril Mango. Washington, D. C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1990.
- Philost. HE — Philostorgius. Kirchengeschichte mit dem Leben des Lucian von Antiochien und den Fragmenten eines arianischen Historiographen / Hrsg. von Joseph Bidez. Leipzig, 1913.
- Procop. BG — Procopii Caesariensis Opera Omnia / Hrsg. von Jacob Haury. Vol. I-IV. Leipzig: Teubner, 1905-1913. De Bello Gothico Vol. II. 1905.
- Вольфрам Х. Готы. От истоков до середины VI века (опыт исторической этнографии). СПб.: Ювента, 2003.
- Граков Б. Н. ruvaiKOKpaxoü^evoi: пережитки матриархата у сарматов // Вестник древней истории. 1947. № 3. С. 100-121.
- Гумилев Л.Н. Хунну. Срединная Азия в древние времена. М.: Издательство Восточной Литературы, 1960.
- Кириченко Д.А. Сарматы Румынии по данным антропологии // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2015. Т. 1 (28). C. 89-97.
- Кириченко Д.А. Сарматы Венгрии по данным антропологии // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. Т. 3 (22). C. 103-112.
- Митрофанов А.Ю. Брак Августы Епифании с Тюрком: исторический факт или глава приключенческого романа? // Византия и Европа. Proslogion: Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. 2002. Вып. 6 (2). С. 81-145.
- Шувалов П. В. Секрет армии Юстиниана. Восточно-римская армия в 491641 гг. СПб.: Петербургское востоковедение, 2006.
- Шувалов П. В. Герман, кузен Юстиниана, и «Стратегикон» Псевдо-Маврикия // Византийский временник. 2015. Т. 87 (99). С. 64-70.
- Щукин М. Б. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2005.
- Beckwith Ch. On the Ethnolinguistic Identity of the Hsiung-nu // Language, Society, and Religion in the World of the Turks. Festschrift for Larry Clark at Seventy-Five / Ed. Z. Gulacsi. Turnhout: Brepols, 2019. P. 53-75.
- Frolow A. La Vraie Croix et les expéditions d'Héraclius en Perse // Revue des études byzantines. 1953. Vol. 11. P. 88-105.
- King Charles W. Attila, Honoria, and the Nature of Hunnic Rule // Radical Traditionalism. The Influence of Walter Kaegi in Late Antique, and Medieval Studies / Ed. by C. Raffensperger, D. Olster. London, 2019. P. 97-114.
- Lotter F. Völkerverschiebungen im Ostalpen-Mitteldonau-Raum zwischen Antike und Mittelalter (375-600). Berlin: Walter de Gruyter, 2003.
- Martindale J.R. The Prosopography of the Later Roman Empire. Vol.II: 395-527. Cambridge: University Press, 1980; Vol. III: 527-641. Cambridge: University Press, 1992.
- MitrofanovA.Y. The Lord's gift transformed into a tiger. A hypothesis regarding the fate of the Empress Theodora of Khazaria (705-711) // Byzantinische Zeitschrift. 2023. Vol. 116 (1). S. 127-146.
- Müller S. Horses of the Xianbei, 300-600 AD: A Brief Survey // Pferde in Asien: Geschichte, Handel und Kultur / Horses in Asia: History, Trade and Culture / Ed. by G. Bert Fragner, R. Kauz, R. Ptok, A. Schottenhammel. 2009. P. 181-193, 284-288.
- Speck P. Eine Gedächntisfeier am Grabe des Maurikios. Die Historiai des Theophylaktos Simokates: der Auftrag; der Fertigstellung; der Grundgedanke // Varia IV. Beiträge von Sofia Kotzabassi und Paul Speck. (По1к1Ха Bu^avriva 12). Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1993. S. 175-254.
- Speck P. Épiphania et Martine sur les monnaies d'Héraclius // Revue Numismatique. 1997. No. 152. P. 457-465.
- Wolfram H. Mathasunta // Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 72. Roma, 2008.
- Zuckerman C. Au sujet de la petite Augusta sur les monnaies d'Héraclius // Revue Numismatique. 1997. No. 152. P. 473-478.
- Zuckerman C. La petite Augusta et le Turc. Epiphania-Eudocie sur les monnaies d'Héraclius // Revue Numismatique. 1995. Vol. 6. P. 113-126.