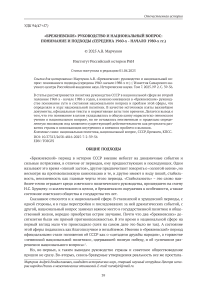«Брежневское» руководство и национальный вопрос: понимание и подходы (середина 1960-начало 1980-х гг.)
Бесплатный доступ
В статье рассматривается политика руководства СССР в национальной сфере во второй половине 1960-х начале 1980-х годов, а именно имевшееся в «брежневском» руководстве понимание сути и состояния национального вопроса и проблем этой сферы, что определяло и курс национальной политики. В качестве источников взяты важнейшие документы, официальные тексты и нормативные акты того времени. Делается вывод о том, что это понимание в целом укладывалось в общую канву марксистско-ленинского учения о национальном вопросе, но не оставалось неизменным и проделало определенную эволюцию под влиянием существующей действительности как результата развития страны и возникающих внутренних и внешних проблем и вызовов.
Национальная политика, национальный вопрос, СССР, Брежнев, КПСС
Короткий адрес: https://sciup.org/148331448
IDR: 148331448 | УДК: 94(47+57) | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-2-39-56
Текст научной статьи «Брежневское» руководство и национальный вопрос: понимание и подходы (середина 1960-начало 1980-х гг.)
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ
«Брежневский» период в истории СССР внешне небогат на динамичные события и сильные потрясения, в отличие от периодов, ему предшествующих и последующих. Одни называют это время «эпохой застоя», другие предпочитают говорить о «золотой осени», но несмотря на противоположную коннотацию и те, и другие имеют в виду покой, стабильность, неизменность как главные черты этого периода. «Стабильность» – это слово наиболее точно отражает кредо советского политического руководства, пришедшего на смену Н.С. Хрущеву: и коллективного в целом, и брежневского окружения в особенности, а также состояние советского общества и государства тех лет.
Сказанное относится и к национальной сфере. В сталинский и хрущевский периоды, с одной стороны, и в годы перестройки и последовавших за ней драматических событий, с другой, национальный вопрос занимал важное место в государственной политике и общественной жизни, нередко приобретая острое звучание. Почти что два «брежневских» десятилетия были им прямой противоположностью. В это время в национальной сфере на первый взгляд мало что происходило (хотя на самом деле это было не так). А состояние этой сферы подавалось как благополучное и незыблемое. Именно в «брежневский» период официальными стали положения об СССР как о «цитадели дружбы народов», о торжестве «ленинской национальной политики», одержавшей полную победу, и об «успешном разрешении национального вопроса»1.
ла. А в-третьих, хотя на первый взгляд и кажется, что отношение властей к национальной сфере в этот период было неизменным и ровным, на самом деле их понимание национального вопроса и видение его состояния не оставалось таковым и проделало определенную эволюцию. Эта эволюция отражала их реакцию на те или иные внутри- и внешнеполитические вызовы, на состояние дел в национальной сфере и имеющиеся там проблемы.
Вот на этой эволюции, на этих нюансах понимания советским руководством национальной проблематики и следует остановиться подробнее. И посмотреть, как «брежневское» руководство взирало на эту сферу, как менялся его взгляд и какие обстоятельства на это влияли, какие имелись приоритеты в области национальной политики. Тем самым яснее станут и проблемы, которые в те годы имелись в национальной сфере. Для начала стоит остановиться не на уровне подготовки (зачастую кулуарной) тех или иных решений, а на видимой стороне, на заявлениях, важнейших политических текстах и нормативных актах.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отстранившие Н.С. Хрущева от власти руководители партии и государства не были «революционерами» и не вынашивали каких-то планов реформ (хотя сторонники некоторого реформирования экономики среди них и были). Наоборот, снятие первого секретаря ЦК КПСС стало реакцией на его зачастую авантюрное реформаторство и стиль руководства. Понимание того, что в стране, в том числе в национальной сфере, не все благополучно, у нового руководства имелось. Но путь решения проблем, по крайней мере многих из них, им виделся в отказе от крайностей хрущевского курса и возврате к выработанным классиками марксизма-ленинизма и утвержденным ранее партией нормам и подходам.
Сказать, что национальный вопрос оставался вне поля зрения руководителей страны, нельзя. Они понимали его значение и то, что он затрагивает все стороны жизни. «Сфера национальных отношений вообще и особенно в такой многонациональной стране, как наша, - отмечал, например, член Политбюро и Секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов, - одна из самых сложных в общественной жизни. И пока существуют нации, с повестки дня не могут сниматься проблемы сознательного управления их взаимоотношениями, воспитания людей разных национальностей в духе глубокого взаимного уважения, непримиримости к проявлениям национализма и шовинизма»2. За осуществлением «правильной линии» в разрешении и освещении национального вопроса власти внимательно следили, к примеру, контролируя содержание научной, справочной, художественной литературы. Но повседневной практической работе по осуществлению национальной политики уделяли внимания значительно меньше. Происходило это по нескольким причинам.
Первой явилась заидеологизированность этой сферы. Согласно марксистско-ленинскому учению руководство СССР рассматривало национальный вопрос как один из сопутствующих вопросов социально-экономического, политического и культурного развития общества, как вторичный по отношению к вопросам социально-экономическим. Его решение должно было быть подчинено задачам построения социализма и коммунизма и осуществляться на основе указанного учения. Соответственно, на цели национальной политики и методы ее осуществления смотрели как на условие решения этих задач3. А именно построения материальных основ коммунизма и формирования коммунистического общества – как конечной цели, и совершенствования общества развитого социализма – как цели тактической.
Поэтому политика в национальной сфере и в области межэтнических отношений должна была обеспечить решение задач, во-первых, теоретического, а во-вторых, конкретнопрактического плана. К первым следует отнести обеспечение, с одной стороны, расцвета всех советских наций и народностей (то есть удовлетворения их национально-культурных запросов), а с другой, их неуклонного сближения, сложения советского народа и формирования интернациональной социалистической культуры. Ко вторым – обеспечение безопасности и стабильности государства, межэтнического мира и гармонизации взаимоотношений между государством и этносами.
Отсылка к идейному наследию В.И. Ленина и нормам «ленинской национальной политики» в «брежневский» период звучала рефреном в документах, выступлениях, работах по национальному вопросу, имея тенденцию к усилению. Чрезвычайная идеологизация и марксистско-ленинская фразеология затрудняли и по сей день затрудняют восприятие советской национальной политики и вычленение из идеологических штампов и трескучих фраз ее реального зерна, относящегося не к коммунистической идеологии и футурологии, а к нуждам повседневной жизни людей и функционированию такой огромной, сложноустроенной страны, в которой проживало множество весьма различающихся между собой по культуре, языку, социальному облику и историческому наследию народов, каким был СССР.
Другой причиной нежелания брежневского руководства погружаться в национальную проблематику стало стремление уклониться от решения острых проблем. Это явилось реакцией на политику предшественников: И.В. Сталина, Л.П. Берия, Н.С. Хрущева, на разбуженные массовыми переселениями народов и перекройкой внутренних границ межэтнические и территориальные проблемы, на нюансы трактовки патриотизма и роли русского народа, на понимание сферы национального/интернационального, особенно которое бытовало в хрущевские годы. Л.И. Брежнев и его коллеги не хотели повторения этих проблем. В их отношении к национальному вопросу проявилась с годами крепнущая тенденция: консерватизм, стремление сохранить «стабильность» и нежелание что-то менять.
Третья причина заключалась в желании подогнать действительность под идеологические догмы и свои представления о том, в каком направлении развиваются и должны развиваться общественные и национальные процессы, а также в растущей самоуспокоенности.
Показателем всего этого служит отсутствие специальных органов, отвечающих за выработку и осуществление национальной политики. Считалось, что раз национальный фактор вторичен, то и решение его достигается за счет социально-экономических, культурных и прочих вопросов, за которые отвечают соответствующие высшие и местные партийные и государственные органы власти. Поэтому вопросы, касавшиеся национальных процессов и отношений, находились в ведении ЦК КПСС и его аппарата, прежде всего Секретариата и ряда отделов ЦК, а также Президиума Верховного Совета СССР и Совета национальностей. Большую практическую работу осуществлял КГБ СССР и его местные органы. Согласно «Положению о Комитете государственной безопасности при Совете Министров СССР» (от 9 апреля 1959 года), одной из его задач являлась «борьба с вражеской деятельностью антисоветских и националистических элементов внутри СССР»4. Действия активистов национальных движений, проявления межэтнической напряженности рассматривались преимущественно в этой связи.
Потребность в специальной структуре, которая занималась бы столь важной сферой, осознавалась специалистами и даже представителями власти. Так, о необходимости серьёзного изучения национального вопроса на июньском 1967 года Пленуме ЦК КПСС говорил Первый секретарь Московского горкома партии Н.Г. Егорычев, но его призыв был проигнорирован5. Особенно очевидной она становилась по мере того, как в ходе развития страны усложнялись национальные процессы, вставали новые проблемы, возникали очаги межэтнического напряжения. Однако «наверху» по-прежнему не видели в ней необходимости. Показательна реакция на письмо, которое 7 июня 1983 года направил на имя Генерального Секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова сотрудник Института марксизма-ленинизма Э.А. Баграмов.
Он предлагал создать при ЦК специальную группу, которая бы занималась анализом проблем в национальной сфере (рассматривала способы укрепления интернациональной сплоченности, правильного учета государственных и республиканских интересов, построения политико-воспитательной работы) и составлением рекомендаций по их решению. При Президиуме Верховного Совета СССР автор предлагал учредить печатный орган, освещавший бы вопросы национальной политики и национальных отношений, или расширить соответствующую тематику в газетах «Правда» и «Известия»6. С Баграмовым встретились секретари ЦК КПСС М.В. Зимянин, И.В. Капитонов и Е.К. Лигачев. И хотя в письме речь шла о создании даже не ведомства, а всего лишь экспертной группы, они посчитали создание таковой, равно как и выпуск специализированного печатного издания, нецелесообразным. Баграмову было разъяснено, что проблемы национальных отношений рассматриваются не отдельно, а в контексте развития социально-политических отношений7.
Вместе с тем наряду с общими принципами и пониманием сути и путей разрешения национального вопроса отношение властей к политике в национальной сфере не оставалось одинаковым.
ВЛАСТЬ И НАЦВОПРОС ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-Х - НАЧАЛЕ 1970-Х ГГ.
Вехами в национальной политике становились съезды КПСС. Политический курс, в том числе в области национальной политики, вырабатывался не на съездах, а на Пленумах ЦК и особенно в ходе их подготовки, а затем все больше в Политбюро, а также в узком кругу, на неформальном уровне. А практическая его реализация осуществлялась в Секретариате и отделах ЦК КПСС, Президиуме Верховного Совета. Но съезды выступали как форма отчета партии (а значит, и государства) о проделанной за определенный период работе, на них ставились цели и определялись задачи на отдаленную и ближайшую перспективу, оговаривались планы и подходы к решению насущных вопросов развития страны. И в том числе в национальной сфере. Поэтому съезды дают представление о курсе советского руководства, позволяют увидеть динамику отношения власти к национальному вопросу и понимания тех проблем, что имелись или возникали в этой сфере.
В «брежневский» период состоялось четыре съезда КПСС. На каждом из них национальному вопросу уделялось внимание, но в разной степени, а в поле зрения оказывались разные его аспекты.
Первый из них, XXIII съезд КПСС, состоялся спустя почти полтора года с момента отстранения Хрущева от власти, 29 марта - 8 апреля 1966 года. Однако именно на нем были заявлены приоритеты нового руководства. Одной из основ Советского Союза, наряду с такими положениями, как общность социально-экономического строя, политической системы и социалистической идеологии, указывалось братство и сотрудничество народов СССР. В Отчетном докладе Первого секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева дружба народов объявлялась «неодолимой могучей силой», которая все уверенней «крепнет и развивается». Идет «великий процесс сближения народов, укрепления нерасторжимых уз их дружбы и братства, единства и сплоченности», говорилось в докладе8. От партии и коммунистов всех национальностей требовалось неустанно работать над укреплением экономических, культурных и духовных связей народов. ЦК устами своего Первого секретаря заверял, что «партия и впредь будет заботиться об интересах и национальных особенностях каждого народа, воспитывать всех советских людей в духе идей пролетарского интернационализма, в духе нерушимой верности братству и дружбе народов СССР»9.
Оговаривалась неизменность реализации одного из основополагающих принципов советской национальной политики, заложенной еще Лениным, – выравнивания уровня со- циально-экономического развития наций и народностей и подтягивания союзных республик и национальных автономий до уровня развития региона, взятого в качестве эталона. Таковым считалась РСФСР, а конкретно ее центральные области, за счет сил и средств которых и осуществлялись «выравнивание» и «подтягивание». Для этого, подчеркивалось в Отчетном докладе, «особенно много было сделано» за последние годы. В таком «выравнивании» и в развитии национальных регионов вообще руководству КПСС виделась прочная основа дальнейшего сплочения народов многонациональной страны. А само это сплочение характеризовалось как «яркое проявление великой жизненной силы ленинской национальной политики»10.
Итак, на съезде новое руководство СССР заявило о своих приоритетах в национальной политике. А именно об отказе от получившей хождение в хрущевское время идеи ускоренного слияния советских народов в новую советскую нацию и связанных с ней нацио-нал-нигилистических настроений. Действительно, понимание советской общности тогда получило тенденцию к ее истолкованию как новой нации, якобы идущей на смену нациям прежним. В проектах новой партийной Программы и новой Конституции присутствовали положения о том, что в СССР происходит слияние наций и образование на их основе одной нации с одним языком и общей культурой. О том, что в СССР уже «сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты, – советский народ», заявил сам Хрущев на XXII съезде КПСС (17 октября 1962 года)11.
Понимание этой общности как новой нации получило распространение не только среди ряда представителей власти и работников общественных наук, но и простых граждан. Они предлагали в графе «национальность» писать «советский человек», зафиксировать в Конституции, что СССР населяет «многорасовый и многоязыковый советский народ» или «советская нация», что назрел вопрос об объединении всех народов СССР в одну национальность. Однако от такой трактовки сути национальных процессов пришлось отказаться уже тогда (пример тому новая «Программа» КПСС). В немалой степени из-за возможной реакции республик, где даже постулат о сближении наций порой расценивался как «забегание вперед» и покушение на «национальные права» их народов12.
Новые власти окончательно отказались от такого подхода. Взамен они выдвинули концепцию «многонациональности», подразумевавшую заботу государства о сохранении и поддержании национальных культур, языков, идентичностей при одновременном укреплении их дружбы и сплочения, а как цели и перспективы – их сближения. По сути они вернулись к сталинской интерпретации развития национальных процессов. Однако уровень социально-экономического и культурного развития страны в целом и народов, в частности, заметно изменился, и это придавало идее уже новое звучание. Власть заверяла граждан, что этничность продолжает ею рассматриваться как важная часть политической системы и территориального устройства государства, которое оставалось неизменно, ведь ни о каких реформах в этой сфере не говорилось.
Следующий, XXIV, съезд КПСС состоялся 30 марта - 9 апреля 1971 года. Прошедшие с момента прошлого съезда внутри- и особенно внешнеполитические события оказали заметное влияние на расстановку акцентов в области национальной политики. На них сильно повлияло ухудшение отношений с Китаем, дошедшее весной - осенью 1969 года до пограничных вооруженных столкновений, и особенно политический кризис в Чехословакии 1968 года. Происходящее в этих странах имело влияние на национальную сферу.
Китайское руководство обвинялось в отходе от марксизма, и в том числе от принципов «ленинской национальной политики», и проведении великодержавно-ассимиляторской («великоханьской») политики в отношении проживающих в Китае народов и национальных меньшинств, в том числе казахов, киргизов, узбеков, уйгуров13. Эта проблема имела не просто теоретическое, но и практическое измерение, непосредственно касавшееся СССР, особенно его среднеазиатских республик, в которых проживали перечисленные народы, а казахи, киргизы, узбеки являлись «титульными» нациями. Таким образом, проводившаяся китайскими властями национальная политика затрагивала и интересы Советского Союза.
В случае с Чехословакией речь шла об угрозе «буржуазного перерождения», которое рассматривалось как почва для национализма и межнациональных противоречий. Тревогу советского руководства вызвало даже не столько то, что агрессивные силы империализма попытались «нанести… удар по позициям социализма в Европе», сколько то, что в этой социалистической стране и ее коммунистической партии нашлись люди, готовые к восприятию «буржуазной идеологии» и попытавшиеся предать «мир социализма»14.
События в Чехословакии показали, что проникновение чуждых идей в социалистическое общество возможно. Посему требовалось усилить контроль и руководство общественной жизнью, идеологией и культурой. Наряду с напоминанием о важности борьбы против ревизионизма, оппортунизма и троцкизма на съезде подчеркивалась важность борьбы с национализмом. «Именно на националистические тенденции и, в особенности, те из них, которые принимают форму антисоветизма, - отмечалось в Отчетном докладе ЦК КПСС, -буржуазные идеологии, буржуазная пропаганда охотнее всего делают ныне ставку в борьбе против социализма и коммунистического движения»15.
Ответом должно было стать укрепление идейно-политического единства советского общества и в том числе единения его народов. Осуществление «ленинской национальной политики» было названо «одним из самых крупных завоеваний социализма», а единство советских народов – «монолитным». Партия ставила себе в заслугу всестороннее развитие «каждой из братских советских республик» и продолжение постепенного сближения наций и народностей. Но вновь подчеркивала: сближение происходит и будет вестись «в условиях внимательного учета национальных особенностей» всех народов и «развития социалистических национальных культур»16.
Подтверждался и даже особо подчеркивался и ещё один принцип национальной политики и советского федерализма: постоянный учёт как общих интересов Союза, так и интересов каждой из образующих его республик. Это стало отражением социально-экономического развития союзных республик и наметившейся на этом фоне тенденции к укреплению положения их партийно-советского руководства. Этноэлиты стремились к расширению полномочий своих республик (прежде всего в хозяйственной сфере) и защите местных интересов в случае их несовпадения с планами и интересами союзных министерств и ведомств. Данное явление получило наименование «местничество». Оно необязательно имело национальную подоплеку, хотя потенциально несло в себе ее зерна, особенно в случае межреспубликанских трений или несогласия с решениями союзных органов. «Местничество» все чаще упоминалось как негативное явление не только социально-экономической действительности, но и сферы национальных отношений.
Методом его изживания, а также правильного сочетания союзных и республиканских интересов указывался социалистический интернационализм (как взаимопомощь народов и республик, отношение к интересам друг друга как к своим собственным). А также непримиримость «к проявлениям национализма и шовинизма, национальной ограниченности и кичливости» и глубокое уважение ко всем нациям и народностям17. Перечисление негативных явлений, которые КПСС обязывалась изживать, было более подробным, нежели на предыдущем съезде. Это свидетельствовало о том, что данные явления стали отмечаться в СССР шире и с ним следовало усилить борьбу.
На XXIV съезде Центральный комитет отчитался о значительной работе по воспитанию у советских людей «чувства гордости за свою Родину, за свой народ, за его великие свершения, чувства уважения к достойным страницам прошлого своей страны»18. Что как раз и укладывалось в политику укрепления единства советского общества перед лицом внешней угрозы. Неслучайно в Отчетном докладе упомянули и о русском народе, на патриотизм и государственничество которого власть традиционно полагалась в осложнявшихся условиях.
Что такое «общенациональная гордость советского человека», подробно разъяснялось в докладе Л.И. Брежнева, посвященном 50-летию образования СССР. Она глубоко интернациональная, с ней несовместимы «пережитки», «ложный патриотизм», идеи национальной и расовой исключительности, отмечал он. Советским людям свойственна гордость «великой Родиной», ее боевыми и трудовыми подвигами, построением справедливого общества и братского союза народов. Это чувство «глубже и шире естественных национальных чувств», это «благородное чувство великой общности», подчеркивалось в докладе19.
А еще XXIV съезд примечателен тем, что на нем была сформулирована и концепция этой общности – советского народа. Концепция «новой исторической общности – советского народа» явилась одной из центральных конструкций национальной политики брежневского руководства. В этот период она была детально разработана и получила окончательное оформление: на съезде, в ряде публичных выступлений, в тексте новой Конституции 1977 года самым активным образом она разрабатывалась общественными науками. Власти исходили из того, что «весь последующий процесс развития наций может проходить только в рамках упрочения этой общности»20. Подробно этот аспект национальной политики рассмотрен в отдельной публикации21.
В начале 1970-х годов были приняты и другие важные теоретические положения, отражавшие эволюцию взглядов советского руководства на состояние и перспективы развития национальных процессов в СССР. Тогда же была высказана точка зрения партии на само состояние национального вопроса.
Способствовали этому юбилеи. 50-летие и 60-летие (соответственно в 1967 и 1977 годах) Октябрьской революции и особенно юбилеи образования СССР: его 50-летие (в 1972 году) и 60-летие (в 1982 году). Торжественно отмечались пришедшиеся на этот период круглые годовщины образования союзных и автономных республик и вхождения народов в состав России (например, отмечавшееся в 1978 году 150-летие вхождения в ее состав Армении22). Эти юбилеи характеризовались как «впечатляющая демонстрация расцвета социалистических наций, монолитного единства всех народов нашей Родины»23. В таком же духе они отмечались и преподносились населению.
Важнейшим для понимания того, как руководство СССР рассматривало национальный вопрос, стало празднование 50-летия образования СССР. В докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик», прочитанном Л.И. Брежневым на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховных Советов СССР и РСФСР 21 декабря 1972 года, была дана оценка политике партии и государства в национальной сфере за прошедшие полвека, обозначены ее цели, приоритеты и планы на будущее.
Создание СССР объявлялось «практическим воплощением ленинских идей о добровольном союзе свободных наций», расцветом нерушимого единства и дружбы всех наций, народностей и республик и одновременно невиданным ростом и подъемом всего советского государства. Политика в национальном вопросе традиционно рассматривалась в неразрывной связи с социально-экономической. Достижение равенства и братства подразумевало необходимость преодоления экономической и культурной отсталости «ранее угнетенных наций и народностей» и ликвидации их фактического неравенства24. Что партия делала и продолжала делать все эти десятилетия.
Подводя итог более чем полувековому воплощению в жизнь «ленинской национальной политики», Генеральный секретарь ЦК КПСС заявил: «мы имеем все основания сказать, что национальный вопрос в том виде, в каком он достался нам от прошлого, решен полностью, решен окончательно и бесповоротно». И пояснил, что имелось в виду. В СССР «родилось и окрепло великое братство людей труда, объединенных независимо от их национальной принадлежности общностью классовых интересов и целей, сложились небывалые в истории отношения» – дружба народов. А она позволила возникнуть новой исторической общности – советскому народу. Достижения в решении национального вопроса ставились в заслугу непримиримой борьбе коммунистов с уклонами от «ленинской национальной политики», проявлениями национализма и великодержавного шовинизма25.
Брежнев неслучайно указал, что национальный вопрос полностью решен в тех его аспектах, в каких достался от дореволюционного прошлого. Национальные отношения «в обществе зрелого социализма, - уточнил Леонид Ильич, - это реальность, которая постоянно развивается, выдвигает новые проблемы и задачи». Партия их «своевременно решает» в интересах страны, республик и коммунистического строительства26. Тем самым власть признавала, что национальная сфера – сфера меняющаяся, не закостенелая, проблемы в ней есть и могут возникать в дальнейшем. Но проблемы эти совсем иные, нежели те, что партии и государству приходилось решать до этого.
Говорить о решении (пусть и с оговорками) национального вопроса советскому руководству и обществоведам позволили достижения в деле социалистического строительства, а именно, как официально утверждалось, «построение в СССР развитого социалистического общества». Подробно об этом говорилось в Постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 50-летию образования СССР» от 21 февраля 1972 года.
В этом обществе, говорилось в постановлении, «достигла высокого уровня развития общесоюзная экономика, включающая в себя хозяйство республик и развивающаяся в интересах всей страны и каждой республики». В советском обществе в целом и в каждой нации и народности сложилась однотипная социальная структура, что позволило утверждать об уничтожении не только классового, но и национального гнета (а он считался непременным атрибутом буржуазной структуры общества). Было «обеспечено всестороннее развитие в неразрывном единстве союзной государственности и национальной государственности республик». Созданы условия для активного участия всех национальностей в культурном и научно-техническом процессе, произошел расцвет, сближение и взаимообогащение культур социалистических наций и народностей. В обществе «утвердилась идеология марксизма-ленинизма, социалистического интернационализма и дружбы народов», интенсивно идет обмен духовными ценностями и кадрами, усиливается «интернационализация всего уклада жизни народов». И вообще трудящиеся республик составили «многонациональный коллектив, в котором национальные особенности органически сочетаются с интернациональными социалистическими, общесоветскими чертами и традициями», что нашло выражение в образовании новой исторической общности людей – советского народа27.
Опыт строительства многонационального советского государства, говорилось далее, «блестяще подтвердил выводы марксизма-ленинизма». А именно то, что национальный вопрос последовательно может быть разрешен лишь в социалистическом обществе. Что лишь социалистическая демократия «гарантирует народам равные права и возможности» и создает условия для решения национальных проблем с учетом коренных интересов трудящихся различных национальностей. Что расцвет и сближение наций и народностей являются объективной закономерностью развития социализма, а СССР «является наиболее жизнеспособной и совершенной формой устройства многонационального государства, гармонически сочетающей интересы всего общества с интересами каждой нации». Отсюда делался логический вывод теоретического характера: марксистско-ленинское учение по национальному вопросу «выдержало испытание на прочность, а ленинская национальная политика одержала полную победу»28.
Некоторые моменты постановления отражали реальность, другие имели место, но пока что не достигли желаемого и изображенного в нем уровня, третьи вообще являлись преувеличением. А о нерешенных проблемах, например, незавершенной реабилитации некоторых ранее переселенных народов (советских немцев, крымских татар, турок-месхетинцев) и обусловленной этим деятельности их национальных движений; территориальных претензиях национал-активистов ряда народов к своим соседям и государству; имевшихся в некоторых местностях межэтнических трениях; фиксировавшихся в ряде союзных и автономных республик и временами проступавших наружу националистических проявлениях в этом контексте говорить не приходилось. Более того, они как бы переставали существовать, превращаясь в некие «пережитки».
ВЛАСТЬ И НАЦВОПРОС В СЕРЕДИНЕ 1970-Х - НАЧАЛЕ 1980-Х ГГ.
50-летний юбилей образования СССР стал своеобразным рубежом и подведением итогов того, что было сделано в национальной сфере предшественниками и самим «брежневским» руководством. В последующее десятилетие его взгляд на национальный вопрос, цели и принципы национальной политики кардинально не менялся, хотя изменения в самой этой сфере происходили, а вместе с ними нарастали и проблемы.
В этот период набирали силу такие черты брежневского правления (начавшие наблюдаться уже с рубежа 1960-х - 1970-х годов и по мере укрепления позиций Брежнева и его команды лишь крепнувшие), как парадность, самоуспокоенность, восхваление непогрешимости «линии партии» и лично Генерального секретаря. Желание уйти от проблем заставляло откладывать их решение или делать вид, что их нет. Да и «коридор возможностей» их решения все более сужался – по мере того, как официальная идеология утрачивала возможность дать ответ на встающие вызовы и теряла популярность в обществе.
И хотя власть заявляла, что жизнь требует творческого развития теории, «а повторение старых формул там, где они уже изжили себя, неумение или нежелание по-новому подходить к новым проблемам… приносит вред делу»29, в реальности все обстояло иначе. «Мало было желающих среди работников партийных и государственных органов брать на себя ответственность и даже поднимать вопрос о решении назревших проблем развития многонационального государства», свидетельствовал начальник Пятого управления КГБ СССР, а впоследствии заместитель председателя КГБ Ф.Д. Бобков. Советские руководители «жили в какой-то необъяснимой эйфории идеального благополучия»30. В силу своей должности (Пятое управление было создано для борьбы с идеологическими диверсиями и деятельностью националистических элементов31) Бобков знал, что говорил.
Все это было заметно по эволюции трактовки степени решенности национального вопроса. Постепенно все явственнее стало наблюдаться желание его «закрыть». В 1972 году официально было сказано, что национальный вопрос решен в той степени, в какой он достался от дореволюционного прошлого. А на внеочередной седьмой сессии Верховного совета СССР девятого созыва 4 октября 1977 года Брежнев заявил, что благодаря «последовательному проведению ленинской национальной политики мы, построив социализм, одновременно – впервые в истории – успешно решили национальный вопрос»32. Решили – уже без всяких оговорок. В Обращении Генерального секретаря ЦК КПСС к участникам проходившей в августе 1978 года Всемирной конференции по борьбе против расизма утверждалось, что в «Советском Союзе национальный вопрос решен полностью»33. О том, что в СССР «на основе марксистско-ленинской науки» и под руководством КПСС «впервые в истории» разрешен национальный вопрос, утверждалось и со страниц научных трудов34. Все чаще звучали слова о «братском и нерушимом единстве всех наций и народностей страны»35.
Эта тенденция набирала силу несмотря на то, что национальный вопрос не только не сходил с повестки дня, но все чаще напоминал о себе. Примером тому – тлеющие и время от времени обостряющиеся армяно-азербайджанские и грузино-абхазские противоречия, осетино-ингушский конфликт, проблемы межэтнических отношений и антирусские настроения, нарастающие трения по линии местные – мигранты (прежде всего русские и русскоязычные) в ряде союзных республик (Прибалтика, Средняя Азия) и национальных автономий (в частности, некоторых северокавказских).
24 февраля - 5 марта 1976 года состоялся XXV съезд КПСС. В Отчетном докладе съезду основное внимание уделялось экономическому развитию страны и повышению благосостояния граждан. Национальному вопросу отводилось немного места, что как раз и свидетельствовало об указанных выше тенденциях. Говорилось о большой проделанной работе по укреплению патриотического воспитания и интернационального сознания масс, дружбе народов. Упоминались отдельные, но уже устраненные недостатки, допущенные в работе партийных организаций Грузии и Украины (в деле интернационального воспитания). В первом случае подразумевалась политика грузинского руководства в отношении некоторых народов республики (абхазов, осетин). Во втором – проводившаяся бывшим Первым секретарем ЦК КПУ П.Е. Шелестом украинизация общественной жизни республики и увязывание им устремлений к расширению республиканских полномочий с национальным фактором.
Наличие проблем в национальной сфере признавалось, обойти вниманием реальную ситуацию было нельзя. Но подавались они как нечто единичное, маргинальное и уже решаемое: «изживаются отдельные проявления национализма и шовинизма, факты внеклассового подхода к оценке исторических событий, проявления местничества, попытки воспевать патриархальщину»36.
Более важной вехой в осмыслении национального вопроса стала подготовка и принятие новой Конституции СССР и конституций союзных и автономных республик. Комментируя 7 октября 1977 года на седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва проделанную работу, Брежнев еще раз остановился на главном диалектическом принципе советской национальной политики: сочетании интернационального и национального. «Социальнополитическое единство советского народа вовсе не означает исчезновения национальных различий», сказал он. Сближение наций и взаимное обогащение их духовной жизни идет. «Но мы встали бы на опасный путь, если бы начали искусственно форсировать этот объективный процесс сближения наций»37.
Несмотря на то, что советское руководство отдавало приоритет интернациональному началу, о чем постоянно заявляло, постулирование значения национального начала усиливалось. Это не только явилось констатацией его растущей роли в жизни общества и государства (усиления экономического веса республик, позиций их руководства и этноинтеллигенций, укрепления национальных культур и роста национального самосознания), но и усиливало эту тенденцию, придавая ей официальный, поддерживаемый властью характер.
Это было заметно по тексту Конституции 1977 года. Главные положения советской национальной политики и государственного устройства в ней остались неизменными, но по сравнению с Конституцией 1936 года имелись и отличия. Так, в ней отводилась бóльшая роль нациям. Если в предыдущем варианте Конституции Советский Союз трактовался как «союзное государство, образованное на основе добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик», то в «брежневской» – как «единое союзное многонациональное государство», созданное путем «свободного самоопределения и добровольного объединения социалистических республик». То есть были добавлены слова «единое»
и «многонациональное», что должно было отражать и уравновешивать противоположные цели и тенденции. «Единое» должно было отражать курс на сближение наций и народностей и на укрепление советской идентичности. «Многонациональное» – курс на их расцвет и подчеркивать сущность СССР как «государства наций». Были упомянуты и они сами: советский федерализм объявлялся результатом не только добровольного объединения республик, но и «самоопределения наций» (а как следствие – и самоопределения их республик)38.
В ЦК и иные органы власти поступали проекты реформирования национально-территориального устройства страны. Предлагались таковые и в ходе подготовки и всенародного обсуждения проекта новой Конституции, первые шаги на пути к которой были предприняты еще во времена Хрущева. Некоторые носили важный, но частный характер. К таковым относились, например, предложения перевести некоторые автономные республики, скажем Абхазскую АССР, Татарскую АССР, в разряд союзных, повысить статус Нагорно-Карабахской автономной области до автономной республики. Или, наоборот, ликвидировать статус автономий, например Аджарской АССР и Нахичеванской АССР, как утративших былые основания для своего статуса39. Предлагали расширение права союзных республик в экономической и внешнеполитической сфере. Сторонниками таких изменений часто выступали представители этих республик и их «титульных» наций, но подобные идеи исходили и от других людей.
Но были и такие предложения, которые касались принципов построения советской федерации. Так, предлагалось отказаться от национально-государственного устройства, в основе которого лежало этническое начало, и перейти к административно-территориальному, в основу которого был бы положен экономико-географический принцип. Отказаться от федерации в пользу унитаризма или хотя бы ограничить суверенитет республик, лишив их права выхода из состава СССР и права на внешние сношения. Поднимался вопрос об упразднении Совета национальностей, причем одним из сторонников его упразднения являлся помощник Брежнева В.А. Голиков, представитель «охранительно-патриотического» крыла в «подверхах» власти40.
Но «наверху» эти предложения не нашли поддержки. Выступая на майском 1977 года Пленуме ЦК КПСС и на упоминавшейся сессии Верховного Совета, Брежнев назвал подобные предложения ошибочными. «Советский Союз – государство многонациональное, -сказал он. - Опыт показал, что основные черты федеративного устройства СССР полностью оправдали себя. Поэтому нет нужды вносить какие-либо принципиальные изменения в формы советской социалистической федерации»41. Масштабная реформа, во-первых, коснулась бы самих основ советской государственности, что означало коренную перестройку административной и даже политической системы, во-вторых, затронула бы интересы набиравших политический вес правящих групп республик и автономий (этноэлит), а в-третьих, не соответствовала положениям «ленинской национальной политики». Пойти на такие революционные преобразования брежневское руководство не захотело и не посчитало нужным.
В принятом 19 февраля 1982 года постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования СССР» Советский Союз был назван «динамичной и эффективной формой» объединения советских наций и народностей, рассчитанной на «весь исторический период перерастания социалистической государственности в коммунистическое общественное самоуправление»42. То есть на необозримую перспективу. Ведь, в отличие от Хрущева, обещавшего построить коммунизм в обозримой и близкой перспективе, сменившие его руководители от таких обещаний воздерживались. Тем самым, на любые проекты и предложения пересмотра или коррекции административно-государственного устройства накладывался запрет. Ни о какой заявленной «динамичности» этой формы речь, понятно, идти не могла. А ошибочность утверждения о ее «эффективности» стала ясна спустя всего несколько лет.
Таким образом, в диалектической связке «национальное-интернациональное» под речи о приоритетности интернационального начала в жизни государства и общества в 1970-х - начале 1980-х годов происходил довольно явственный дрейф в сторону начала национального.
Вместе с тем в этот период властью было озвучено несколько важных положений. Анализ происходящего и растущие социально-экономические и демографические проблемы хоть и с трудом, но пробивали стену самоуспокоенности и догматизма. О некоторых из них зашла речь на проходившем 23 февраля - 3 марта 1981 года XXVI съезде КПСС.
В Отчетном докладе съезду присутствовали привычные слова о многонациональном характере государства, недопустимости как искусственного стирания, так и искусственного раздувания национальных особенностей, о необходимости гармоничного сочетания развития республик и Союза в целом, о расцвете национальных культур и формировании на основе равенства и добровольности «культуры единого советского народа», о необходимости уважения национальных чувств и воспитания людей в духе интернационализма и советского патриотизма, о непримиримости к национализму и шовинизму43. Из нового было упоминание в числе прочих «националистических вывихов» антисемитизма и сионизма, что стало отражением противоборства между общественными течениями внутри СССР («либерально-западническим» и «патриотическим»), в котором еврейский аспект занимал особое место. Утверждение о необходимости сочетания интересов Союза и составляющих его республик, прозвучавшее на этом съезде, говорило о том, что эта проблема продолжала считаться одной из основных проблем советского федерализма и национальных отношений.
Но главное заключалось в другом. На съезде было заявлено об успешном решении одной из главных задач национальной политики. «С первых лет Советской власти наша экономическая и социальная политика строилась так, чтобы как можно быстрее поднять бывшие национальные окраины России до уровня развития ее центра, - заявил Брежнев. - И эта задача была успешно решена, отсталых национальных окраин, товарищи, ныне не существует!»44.
Впервые об этом заговорили в год 50-летия образования СССР. Но тогда акценты были расставлены иначе. В упоминавшемся торжественном докладе отмечалось, что взятый по инициативе Ленина курс на ускоренное развитие национальных окраин было невозможно осуществить «без большой и всесторонней помощи» «ранее угнетенным» нациям и народностям со стороны «более развитых районов страны» (читай Центральной России) и «прежде всего со стороны русского народа, его рабочего класса». Эта помощь подавалась как долг и почетная обязанность. «Такая помощь, готовность идти на огромные усилия и, скажем прямо, на жертвы во имя преодоления отсталости национальных окраин, их ускоренного развития, была завещана пролетариату России Лениным как высокий интернациональный долг. И русский рабочий класс, русский народ этот долг с честью выполнили», провозгласил Брежнев. А такого понятия, как «отсталая национальная окраина», больше не существует45.
Иными словами, об отданном ценой огромных усилий и жертв (это признала сама партия) «долге» со стороны России и русских было официально заявлено еще в 1972 году. Равно как и об отсутствии «отсталых окраин». Но о том, что сама задача ускоренного и приоритетного развития национальных регионов, во имя которой и были затрачены эти усилия и принесены жертвы, решена, не говорилось. Как и о том, в каком состоянии оказалась сама Центральная Россия. Для этого должно было пройти еще девять лет.
И вот наконец власти посчитали, что в этом аспекте национального вопроса они свою задачу выполнили. Но вместе с тем было заявлено, что в национальной сфере не все благополучно, и обозначены три новые задачи, которые требовалось решать. И в немалой степени все они, хотя и каждая по-своему, стали следствием этой уже решённой задачи. Сама их постановка стала выходом за привычные рамки.
Обрисовав «грандиозные перемены», произошедшие в социально-экономическом и культурном развитии республик и автономий, Брежнев отметил, что важнейшую роль в этом сыграло «тесное сотрудничество всех наций страны и прежде всего бескорыстная помощь русского народа». Теперь принцип интернационализма должен был способствовать подъему исторического центра России, за счет которого десятки лет осуществлялось развитие национальных регионов и в СССР, и в самой РСФСР. Нечерноземный район России «оказался в более трудных условиях по сравнению с некоторыми другими», отмечалось в Отчетном докладе. И задача его подъема «столь сложна и неотложна, что решать ее следует совместными усилиями всех республик и по возможности в короткие сроки». Брежнев призвал делегатов «дружно и энергично» поработать на дело возрождения Нечерноземья46.
Проблема социально-экономического и демографического положения Нечерноземья постепенно, но неуклонно заявляла о себе на протяжении 1970-х годов. Призыв бросить все силы на его подъем прозвучал уже на излете брежневской эпохи. Моментально измениться политика не могла, да и решения съезда не означали, что поддержка Центром республик прекратится47.
С проблемой Нечерноземья была связана и другая начавшая заявлять о себе проблема: нехватка трудовых ресурсов в одних регионах (Сибирь, Дальний Восток, области европейской части РСФСР) и их избыток в других (Средняя Азия, Кавказ). Население регионов с избытком рабочей силы предлагалось вовлечь в освоение территорий, испытывавших ее нехватку. Но это могло привести к социальным и межэтническим проблемам. Во избежание их и для решения вопросов развития самих Средней Азии и Кавказа предполагалось «шире вести подготовку квалифицированных рабочих коренной национальности, прежде всего из числа сельской молодёжи», вовлекая их в производственные процессы у себя на месте48.
С проблемой внутренних миграций оказалась связана и третья проблема, непосредственно касавшаяся межэтнических отношений и имевшая целый ряд аспектов. А именно: соотношение национального и интернационального начал; взаимоотношения между республиками и союзным Центром, а также между «титульным» (и местным вообще) населением и приезжими; «местничество» и «русификация». «Русификацией» местные на-ционал-активисты (преимущественно из числа гуманитарной интеллигенции) именовали мероприятия властей по улучшению изучения русского языка «титульным» населением республик и национальных автономий и распространению русского языка и советской русскоязычной культуры вообще.
Состав населения республик многонациональный, констатировалось в Отчетном докладе. «За последние годы в ряде республик значительно увеличилась численность граждан некоренных национальностей. У них есть свои специфические запросы в области языка, культуры и быта». Центральные комитеты компартий республик, крайкомы, обкомы «должны глубже вникать в такие вопросы, своевременно предлагать пути их решения», в том числе в кадровом вопросе. Все нации, подчеркивал Брежнев, «имеют право на должное представительство в… партийных и государственных органах» республик (разумеется, при «строгом учете деловых и идейно-нравственных качеств» претендентов)49. Чуть позже эти положения, как и необходимость приложить совместные усилия трудящихся всех республик на развитие Нечерноземья, были повторены в Постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования СССР»50.
Это был ответ на проявления местнических и националистических, прежде всего антирусских, настроений в республиках и иных национальных регионах. С мест со стороны русских и представителей других «нетитульных» национальностей в ЦК, центральные органы, газеты поступали жалобы, в которых говорилось об участившихся случаях их скрытой дискриминации по национальному признаку со стороны представителей «титульных» национальностей и властей этих республик и регионов, и о преимуществах, которыми пользовались представители национальностей «титульных». Данные факты отмечались в республиках Прибалтики, Средней Азии, Закавказья, ряде российских автономий.
Сказанное относилось к представителям всех «нетитульных» народов. Но в первую очередь речь шла о русском и русскокультурном населении других национальностей, численность которого в 1950 - 1970-е годы в республиках и автономиях выросла, об их запросах и о том, что право «на должное представительство» в местных органах власти имеют не только представители «титульных» национальностей, но и эти люди. А также о положении в республиках и автономиях русского языка и культуры.
Проблемы были озвучены, но произошло это уже на закате брежневской эпохи. Вскоре страна вступила в новый период, а затем и прекратила свое существование.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот так национальный вопрос и связанные с ним проблемы были отражены в важнейших официальных текстах советского руководства во второй половине 1960-х - начале 1980-х годов. Видение это не оставалось неизменным и проделало вполне заметную эволюцию. Оно, с одной стороны, отражало приоритеты руководства страны в национальной сфере, его понимание того, как они развиваются и как, сообразно идеологическим и общеполитическим факторам, должны развиваться национальные процессы. И это было первой тенденцией. С другой стороны, становились ответом или скорее реакцией на возникающие по мере развития страны и национальной сферы, в частности, проблемы и вызовы (вторая тенденция).
Важно подчеркнуть, что руководители партии и государства были уверены, что это именно они, опираясь на достижения марксистско-ленинской теории и практическое наследие ленинизма, определяют цели и задают приоритеты в области национальной политики, устанавливают механизмы ее реализации, в том числе разрешения имеющихся и могущих возникнуть в дальнейшем в этой сфере проблем. Как оказалось, эти цели далеко не всегда были достижимыми, а освященные авторитетом «классиков» принципы и механизмы осуществления национальной политики также не всегда оказывались способны ответить на возникающие вызовы. Вопросы решались ситуативно, по мере того, как проблемы давали о себе знать и принимали уже острые формы. Вот почему реабилитация ряда «репрессированных народов» не была доведена до конца, без изменений остался принцип национально-территориального устройства государства, а нарастающие проблемы в области межэтнических отношений оставались без должного внимания.
Первая тенденция проявилась в концепции советского народа. Однако и она отчасти стала реакцией на действительность, а именно на усиление национального начала в диалектической связке интернациональное-национальное. Излишне радикальные хрущевские установки (взгляд на национальные идентичности как на пережиток, отмирающий по мере приближения коммунистической эры), способные нарушить стабильность в обществе, особенно в национальных республиках, «брежневское» руководство не поддержало.
Прочее укладывалось скорее в русло второй тенденции. Главным идейным положением брежневского руководства, наряду с концепцией «новой исторической общности», стала концепция многонациональности и диалектическая связка: интернационального и национального, сближения наций и их расцвета, советской идентичности и идентичностей национальных как ее составляющих. Но чертой этого периода стало постепенное, но явственное усиление в этой связке национальной составляющей, что нашло отражение даже на нормативном уровне. При этом предложения реформирования или корректирования национально-государственной системы – основы основ национальной политики – властью отвергались.
Хотя сказать, что власть не видела проблем, нельзя. Видела, что отражалось даже в рассмотренных выше программных текстах. Но предпочитала либо не ворошить чреватый неприятными последствиями национальный вопрос, либо решать возникающие проблемы привычными методами и средствами из арсенала марксистско-ленинского учения: интернационализмом, укреплением дружбы народов (что еще раз свидетельствовало о том, что основой им виделись именно «народы»), правильным сочетанием общесоюзного и республиканского начал и интересов, которые в меняющихся социально-экономических условиях, в рамках национально-территориального устройства страны и общего подхода властей к национальной сфере оказывались все менее действенными.