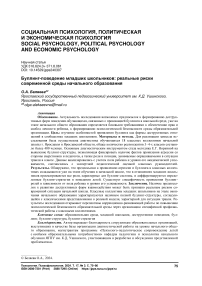Буллинг-поведение младших школьников: реальные риски современной среды начального образования
Автор: Беляева О.А.
Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu
Рубрика: Социальная психология, политическая и экономическая психология
Статья в выпуске: 3 т.17, 2024 года.
Бесплатный доступ
Обоснование. Актуальность исследования возможных предпосылок к формированию деструктивных форм поведения обучающихся, связанных с провокацией буллинга в школьной среде, уже на этапе начального общего образования определяется базовыми требованиями к обеспечению прав и свобод личности ребенка, к формированию психологической безопасности среды образовательной организации.
Образовательная среда, младший школьник, деструктивное поведение, буллинг, буллинг-структура, буллинг-стратегия
Короткий адрес: https://sciup.org/147246089
IDR: 147246089 | УДК: 316.624.3+ | DOI: 10.14529/jpps240307
Текст научной статьи Буллинг-поведение младших школьников: реальные риски современной среды начального образования
В психолого-педагогической науке и практике на протяжении последних десятилетий не ослабевает интерес к изучению понятия «образовательная среда». При всем многообразии подходов, сложившихся в отечественных и за- рубежных исследованиях, безусловными остаются, во-первых, оценка данного феномена как сложного динамичного образования и, во-вторых, признание значимости фактора складывающихся взаимоотношений как существенного условия обеспечения благополучия все субъ- ектов – участников средовых взаимодействий, и прежде всего обучающихся.
Проблема нарастания конфликтности и агрессивности в целом в обществе и, как следствие, в детских и подростковых группах, активно обсуждается в настоящее время на всех уровнях: в средствах массовой информации, интернет-пространстве, педагогических и родительских сообществах, в научных публикациях разных направлений [1]. При этом профилактика деструктивных форм поведения у подрастающего поколения – одна из задач, стабильно находящихся в фокусе внимания всех специалистов, работающих в области возрастной психологии [2–4]; формирование пространства комфортной коммуникации и взаимодействия всех участников учеб-ного-воспитательного процесса – один из ключевых социальных запросов, четко сформулированных в нормативно-правовых документах, определяющих требования к условиям реализации образовательных программ в современной школе1.
Школьная травля (буллинг) признается одним из самых негативных явлений, нарушающих ключевые права и свободы детей в образовательном учреждении, в том числе их право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Случаи проявления буллинга как специфичного типа деструктивного поведения, содержащего в себе насильственные действия обидчика по отношению к жертве, не способной себя защитить, направленные на причинение ущерба и вреда личности в течение длительного периода времени, находятся на пике актуальности в обсуждении вопросов безопасности современной образовательной среды и оценки возможных провокаций к ее дестабилизации2 [5]. Доказано, что ситуация травли не может пройти бесследно, ее последствия отражаются на всем окружении и в зависимости от той роли, в которой оказался ребенок, прямо или косвенно формируют его негативный социальный опыт [6, 7]. Среди самых распространенных последствий таких ситуаций называются неустойчивая самооценка, переживание одиночества, общая, личностная и межличностная тревожность, эмоциональные проблемы, депрессия [8, 9].
Исследователи, занимающиеся обозначенными вопросами, подчеркивают, что оценить истинные масштабы буллинга в школьных коллективах крайне сложно, поскольку до сих пор нет единого подхода к его измерению, а кроме того, проблема эта нередко замалчивается как взрослыми, так и детьми, часто неадекватно маркируется и выдается просто за детские шалости или конфликтное поведение. При этом, однако, признается, что данное явление очень распространено [10]. По результатам нашего собственного исследования 2022 года с участием подростков в возрасте от 14 до 17 лет факт столкновения с ситуацией буллинга фиксируют 64 % опрошенных (различие в ответах по половому признаку незначительно); при этом 42 % из них признаются, что были жертвой нападок и 22 % определяют свое участие на стороне агрессора3.
Отметим одну существенную деталь, отличающую современную ситуацию исследования проблемы: в абсолютном большинстве публикаций она фиксируется относительно подростковых сообществ [11–13]; представленность работ, посвященных особенностям проявления буллинга на предшествующих возрастных этапах, крайне ограничена, несмотря на признание предпосылок к ее развитию уже на этапе начальной школы и даже дошкольного детства [14]. В связи с описанными обстоятельствами нами предпринята попытка обратиться к вопросам оценки степени напряженности ситуации относительно среды начального общего образования.
Обзор литературы
Характеристику специфики и особенностей среды конкретной образовательной орга- низации традиционно принято соотносить с понятием «климат обучения», с характером и интенсивностью личных отношений, со степенью эмоционального благополучия, с готовностью участников процесса оказывать друг другу помощь и поддержку [15]. Существенным параметром, определяющим степень благополучия ситуации, становится оценка психологической безопасности среды взаимодействия [16–18], которая описывается как пространство, свободное от насилия, располагающее к личностно-доверительному общению, сохраняющее психическое здоровье и способствующее удовлетворению потребностей, определяющее в конечном итоге референтную значимость отношений всех участников [16]. В данном отношении подчеркнем факт признания большинством ученых значимости именно социального компонента среды как наиболее важного для обеспечения психологической безопасности и создания продуктивных условий для личностного развития [19].
Степени безопасности образовательной среды начальной школы традиционно придается особое значение: благоприятность социально-психологического климата, открытость, разнообразие и позитивная эмоциональная насыщенность межличностных контактов во вновь сформированных классных коллективах становятся не просто залогом успешной адаптации детей к системе школьного обучения, но и в значительной степени определяют социальную стратификацию группы, типичное ролевое поведение ее участников, их стратегии в межличностном взаимодействии со сверстниками и взрослыми. Закрепленные опытом совместной деятельности и общения образцы поведения, установленные в коллективе нормы и правила, сформированные представления о границах допустимых и недопустимых форматов взаимоотношений во многом определяют дальнейшее развитие группы и межличностных отношений в период подросткового возраста.
Особенностями начального этапа школьного детства является также сохраняющийся высокий уровень доверия и достаточная степень влияния педагогов на жизнь детей [20]. Роль первого учителя, классного руководителя связана и с трансляцией образцов поведения в новой для ребенка среде, и с обеспечением его социально-психологической адаптации в системе внутриклассных отношений, и с профилактикой различных форм деструктивного поведения в детских сообществах [21]. Необходимость такого рода работы подтверждена и системой требований современных образовательных стандартов к совокупности личностных результатов младших школьников, среди которых – развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций1.
Столкновение с проявлениями равнодушия, эгоистичности и даже жестокости в отношениях между детьми, низкий уровень толерантности к чужому мнению и недостаточная эмпатия – к сожалению, нередкие явления в современной школе. Наличие достаточно большого количества реальных и скрытых конфликтов в детских коллективах – факт, не требующий дополнительных доказательств и являющийся абсолютно естественным для динамических процессов внутригруппового взаимодействия [22]. Однако особого внимания требуют ситуации, сопряженные с риском зарождения и закрепления во внутриколлективных отношениях проявлений буллинга (травли).
По своей структуре буллинг достаточно близок к межличностному конфликту, однако согласно обобщению описанных в литературе признаков отличается рядом характеристик, которые нужно очень четко различать для грамотной идентификации девиации [23]:
-
– буллинг асимметричен: с одной стороны, находится обидчик, обладающий властью в виде физической и/или психологической силы, с другой – пострадавший, такой силой не обладающий и остро нуждающийся в поддержке и помощи третьих лиц;
-
– травля осуществляется преднамеренно, она направлена на нанесение физических и душевных страданий человеку, который выбран целью;
-
– такая ситуация подрывает у пострадавшего уверенность в себе, разрушает здоровье, самоуважение и человеческое достоинство;
-
– буллинг – групповой процесс, затрагивающий всех, не только обидчика и пострадавшего, но и весь класс, где он происходит;
-
– травля не прекращается сама по себе: всегда требуется защита и помощь всем сторонам конфликта: пострадавшим, инициаторам и свидетелям [5, 10, 24].
Существует еще одно достаточно важное отличие: в конфликте обе стороны могут так или иначе отстаивать свою позицию, привлекая при необходимости окружающих, но в буллинге априори только одна сторона обладает правами, у другой их нет, соответственно, у жертвы нет возможности предпринимать необходимые действия в свою защиту. Адекватная маркировка такого рода проблем, своевременное вмешательство взрослых на самых первых этапах – залог скорейшего преодоления и минимизации травматичного опыта участников [25]. Крайне высока потенциальная опасность невнимания, замалчивания и, тем более, использования такого рода ситуаций педагогом в дисциплинарных целях, пусть даже в единичных случаях. Подобная профессиональная позиция, с одной стороны, провоцирует закрепление девиантного поведения отдельных детей, а с другой – выступает как дополнительный фактор, влияющий на формирование системы деструктивных взаимоотношений в классе, для поддержания которой становятся необходимы ролевые модели [21, 26], составляющие типичную буллинг-структуру [27].
Буллинг-структура – это сложившаяся социальная система с фиксированными позициями и ролями участников, обладающих характерными личностными и поведенческими чертами и имеющих ряд сопряженных социальных рисков. Основными ролями выступают следующие:
-
1) инициаторы (обидчики, агрессоры, преследователи, буллеры, булли): уверены в себе, склонны к доминированию, часто имеют хорошую физическую форму и потенциал общей агрессии, у них хорошо развит эмоциональный интеллект, но он сопряжен с низкой эмпатией, что определяет склонность к манипулированию другими. В основе поведения – желание завоевать или сохранить влияние в группе, повысить свой статус, получить признание среди сверстников, добиться их внимания и восхищения;
-
2) помощники (последователи): ближний круг агрессора, стремящиеся заслужить одобрение лидера, испытывающие страх оказаться на месте жертвы, стремящиеся к самоутверждению или развлечению;
-
3) жертвы: испытывающие психологическое насилие, изолированность и одиночество, характеризующиеся высоким уровнем тревожности, низкой самооценкой, поведенческими нарушениями, проблемами с социализацией, ограниченностью круга общения.
Часто физически слабые, отличающиеся определёнными особенностями внешности, поведения, привлекающие к себе внимание потенциальных агрессоров;
-
4) защитники жертвы – обладающие наибольшим авторитетом среди сверстников; уверенные в себе, склонные к лидерству, имеющие неплохую физическую подготовку, но, в отличие от инициатора, характеризующиеся высоким уровнем эмпатии, обостренным чувством справедливости, желанием защитить слабого;
-
5) наблюдатели (нейтральные участники): свидетели, в роли которых находится большинство детей, часто не принимающих активного участия в буллинге, но не способных заступиться за жертву из страха оказаться на ее месте.
Понимание типичных особенностей участников буллинга позволяет педагогам и родителям в процессе ежедневного наблюдения выделять проявляющиеся негативные модели поведения детей, сопряженные с риском закрепления девиантных форматов коммуникации, и своевременно блокировать их, создавая условия для невозможности реализации недопустимых стратегий и замещения их продуктивными форматами взаимодействия.
Согласно обобщению существующих подходов, изучение данного явления производится в настоящее время исходя из трех ключевых подходов: диспозиционального, концентрирующегося на субъектах буллинга, их индивидуальных особенностях и внутрилич-ностных предпосылках участников ситуаций травли; темпорального, определяющего периоды сензитивности, в которых повышается уязвимость человека и возрастает риск освоения им определенных ролей в ситуациях буллинга; контекстуального, отмечающего важность роли среды, микроклимата группы и системных процессов в социуме, актуализирующих внутриличностные предпосылки и переводящих буллинг из разряда рисков в разряд действительности [23].
Таким образом, проблема буллинга, безусловно, является признаваемой в научном сообществе и в последние десятилетия подвергается тщательному анализу и в отечественной, и в зарубежной литературе. Однако это не снижает актуальности ее исследования для решения задач выработки адекватных стратегий психолого-педагогического сопровождения его участников с целью минимиза- ции рисков развития на всех этапах школьного детства.
Цель. Общей целью исследования стало изучение особенностей проявления буллинга как формы деструктивных отношений в сообществах младших школьников.
Материалы и методы
Эмпирическое исследование проводилось на базе средних общеобразовательных школ г. Ярославля и Ярославской области на протяжении 2022–24 гг. с участием более 400 младших школьников, обучающихся в возрасте 10–11 лет в примерно равном соотношении мальчиков и девочек. Принципиальным для реализации исследовательских задач, связанных с оценкой полноты представленности буллинг-структуры в детских коллективах начальной школы, стало участие в диагностике классов целиком, соответственно, нами были обследованы младшие школьники 18 классов 3-го и 4-го года обучения в школе.
Основным диагностическим инструментом стала методика Е.Г. Норкиной4 на выявление «буллинг-структуры», позволяющая фиксировать роли и позиции, занимаемые опрашиваемыми в буллинге. Диагностические данные получали количественную обработку и качественное описание, соотносились с некоторыми дополнительными параметрами, важными для ситуации класса (пол, успеваемость ребенка, оценка им степени благоприятности межличностных отношений), обсуждались с классными руководителями, готовыми дать собственную экспертную оценку выявленным тенденциям. Проверка значимости фиксированных различий на материалах диагностики отдельных классных коллективов производилась на основании непараметрического статистического U-критерия Манна – Уитни.
Результаты
Результаты диагностики прежде всего позволяют нам фиксировать выраженные факты агрессии в школьной среде начальной школы: 85 % опрошенных детей говорят о том, что сталкиваются в школьной жизни с агрессив- ными проявлениями, при этом наличие агрессора-ученика в своем классе отметили 38,3 % и в более чем половине случаев (51,7 %) может быть зафиксировано проявление агрессии со стороны педагогов.
Нами диагностированы выраженные предпосылки к закреплению в поведении младших школьников определенных буллинг-ролей. В среднем примерно третья часть всех детей (а в некоторых классах более 60 %) заявляют о стремлении встать на защиту обижаемого, чуть меньшее количество (от 17 до 47 % в разных коллективах) предпочитают остаться в стороне, среди свидетелей и не брать на себя активную роль. При этом в каждом классе есть и буллер, и его помощники, есть и жертва. Представленность этих ролей, конечно, значительно ниже: чаще всего в ролях обидчика и жертвы выступают по одному-два человека, но в некоторых классах число тех, кто готов «присоединиться» при случае к травле и «помочь» агрессору, достигает 15–20 %.
Отметим также, что в рамках каждого из опросов выявлены случаи, когда ребенок занимает одновременно две позиции, и чаще всего это сочетание связано с пока доминирующей ролью защитника («защитник» и «жертва», «помощник» и «защитник», «инициатор» и «защитник», «защитник» и «наблюдатель»).
Существует специфичность буллинг-стратегий у мальчиков и девочек начальных классов. Стереотип восприятия поведения мальчиков как более агрессивного в данном отношении не может быть подтвержден. Нами выявлено, что девочки не менее подвержены категоричным и решительным действиям в случаях буллинга: для 8,6 % характерна роль «агрессора», для 5,6 % – роль «помощника», для 1,6 % – «наблюдателя»; однако они же чаще оказываются и в ситуации жертвы (14,3 % в сравнении с 5 % у мальчиков). Считаем, что такая ситуация может быть связана с тем, что в отличие от открытых физических или вербальных конфликтов у мальчиков девочки избирают варианты скрытого, косвенного проявления агрессии, такие как отказ от взаимодействия с жертвой, исключение ее из общих игр, бойкот и др.5, и, соответственно, эти формы
Распределение буллинг-ролей младших школьников с разным уровнем учебной успеваемости (%) Distribution of bullying roles among primary school children depending on their academic performance (%)
|
Роль в буллинг-структуре/ Role in the bullying structure |
Уровень успеваемости Academic performance |
||
|
Высокий High |
Средний Medium |
Низкий Low |
|
|
Буллер / Buller |
2,0 |
4,0 |
9,0 |
|
Помощник / Assistant |
4,5 |
15,0 |
12,0 |
|
Жертва / Victim |
9,0 |
6,0 |
10,0 |
|
Защитник / Defender |
31,0 |
28,0 |
29,0 |
|
Наблюдатель / Observer |
27,0 |
22,0 |
16,0 |
нарушенной коммуникации остаются вне педагогического и родительского внимания.
Выявлена определенная взаимосвязь уровня академической успешности и закрепляемых за ребенком ролей в буллинг-структуре (см. таблицу).
Еще раз подчеркнем доминирующее стремление детей к демонстрации социально приемлемой позиции защитника и примерно равную ее представленность во всех рассматриваемых группах. Статистически значимых различий по отдельным группам детей с разным уровнем успеваемости, согласно критерию Манна – Уитни, на выборках отдельных детских коллективов не определяется, но по всем результатам чем ниже учебные успехи ребенка, тем заметнее его стремления к активной демонстрации агрессии по отношению к одноклассникам.
Для младших школьников с низким уровнем успеваемости более выражены полярные позиции: они в несколько раз чаще становятся инициаторами (9 % от общего числа опрошенных) травли: чем хуже успеваемость, тем ниже авторитет ребёнка и его стремление к всеобщему социальному одобрению со стороны учителя и родителей и тем больше шансов, что он будет пытаться поднять свой авторитет другими способами, имеющими отрицательные проявления. Хотя и в позиции жертвы эти дети оказываются чаще других (около 10 %), при этом требуется особое педагогическое внимание во избежание провокаций со стороны учителя, способных закрепить негативное отношение к ребенку, не готовому наравне с одноклассниками осваивать учебный материал.
Дети с высокой академической успешностью, конечно, могут стать объектом нападок одноклассников, но при этом значительно реже проявляют собственное желание унизить дру-
Н.В. Нижегородцевой. Ярославль: РИО ЯГПУ. 2023. С. 15–22.
гих, склонны к стратегии невмешательства и предпочитают оставаться в роли наблюдателей, в три-четыре раза реже принимая роль помощника буллера. Среди детей со средним уровнем успеваемости большее число участников, входящих в ближний круг агрессора: неустойчивость их позиции, расчет на одобрение лидера, страх оказаться на месте жертвы, стремление к самоутверждению определяют их стремление помогать «преследователям», не беря на себя открыто роли инициатора травли.
Таким образом, данные опрошенных учащихся всех классов дают возможность говорить, что к окончанию этапа начального образования в каждом коллективе просматривается полная буллинг-структура, которая в случае отсутствия адекватной реакции со стороны взрослых может закрепиться и в дальнейшем привести к разворачиванию травли в полном объеме.
Обсуждение
В результате проведенного исследования на этапе окончания уровня начального общего образования мы фиксируем реально существующие риски закрепления буллинга как формы деструктивных взаимоотношений в детских группах. Сложившаяся в начальных классах буллинг-структура имеет выраженную диспропорциональность и минимальное проявление активных форм противостояния между буллерами и жертвами, распространенность участия в буллинге в роли наблюдателя оказалась значительно выше, нежели в роли агрессора или жертвы, и этот факт абсолютно согласуется с классической моделью ролевой структуры буллинга [13, 28].
При этом нельзя не осознавать, что каждая из групп участников травли неминуемо сталкивается с негативными последствиями травматичного опыта взаимоотношений сразу или в отдаленной перспективе.
Получая развращающий опыт, зачинщики и их помощники в будущем будут реже ориентироваться на выбор социально одобряемых форм самореализации и их склонность к девиантному поведению явно будет более выражена. Нейтральные участники, наблюдатели, в роли которых находится большое количество детей, осознают своё бессилие и беспомощность, их самооценка снижается, испытывают страх и стыд за свое бездействие и одновременно желание присоединиться к гонениям, иллюзорно поддержав свою персональную безопасность. Последствия опыта жертвы максимально отражаются на личностном развитии ребенка: трудности в учебе из-за невозможности сосредоточиться в постоянном стрессе и ввиду вынужденных пропусков занятий, устойчиво сниженная самооценка, искаженный образ себя как «ущербного», «не такого, как надо», тревожные и депрессивные расстройства, в том числе их стойкие и тяжелые формы, сложности с общением, с завязыванием и поддержанием социальных связей, социальные неврозы, социофобия, психосоматические заболевания, – многие из этих проявлений могут быть очень длительными и устойчивыми даже к психотерапевтическому лечению. И, к сожалению, мы должны говорить о том, что независимо от пола, от уровня успеваемости любой ребёнок при неблагоприятном стечении обстоятельств может стать жертвой буллинга. Такие данные, полученные в начальной школе, согласуются с выявленным нами ранее мнением подростков, что практически каждый член детской или подростковой группы, вне зависимости от его личностных особенностей, может попасть в поле травматичного воздействия 6 .
Констатируя явную выраженность тенденций к проявлению типичных способов деструктивного поведения в классных коллективах, особо подчеркнем двойственность позиции многих обучающихся, которая позволяет предположить, что доминирующая пока стратегия защиты может трансформироваться в другие типы буллинг-поведения, принимая в зависимости от складывающихся обстоя- тельств черты других ролей, более агрессивных по своему содержанию.
Выявленные полоролевые особенности буллинг-поведения детей младшего школьного возраста подтверждаются фиксацией аналогичных тенденций другими авторами [10] в более старших классах: мальчики значимо чаще оказываются жертвами физической травли, а также ее инициаторами, девочкам же свойственно непостоянное, периодическое инициирование социальной травли, причем как в реальном взаимодействии, так и в цифровом пространстве.
Таким образом, фактически мы можем утверждать, что к 3–4-му классу на основании достаточно широкого и разнообразного опыта взаимодействия в учебных и внеучеб-ных ситуациях в классных коллективах формируются выраженные тенденции позиционных предпочтений одноклассников относительно ситуаций буллинга. Подобные социально-психологические особенности в развитии детских сообществ, безусловно, требуют особого внимания со стороны взрослых ввиду возможного закрепления негативных поведенческих моделей в качестве доминирующих в целом в классе и в его отдельных микрогруппах.
Наша позиция, связанная с тем, что необходимо уже на этапе начальной школы привлекать внимание всех участников образовательных отношений к вопросам противостояния буллингу в школьной среде, согласуется с мнением М.А. Новикова, А.А. Реан, И.А Коновалова (2021), которые на результатах опросов подростков доказывают, что уже на следующем возрастном этапе, в младшем подростковом возрасте, мы столкнемся с максимально выраженной социальной виктимизацией, с проявлениями и физической травли, и вербального буллинга [10].
Заключение
Выявленные закономерности буллинг-стратегий отдельных групп школьников могут дополнить общее представление о нарастании девиантных форм активности в детских сообществах и стать основанием для дифференциации профилактической и коррекционноразвивающей работы с отдельными обучающимися.
Согласуясь с контекстуальным подходом к трактовке буллинга [23], мы определяем особую важность в профилактике негативных тенденций в целом в образовательной среде с акцентом на микроклимат группы и системные процессы в ближайшем микросоциуме, являющемся важнейшим фактором первичной социализации ребенка.
В своей работе мы утверждаем абсолютную недопустимость невнимания к ситуации класса, где доминирующим способом взаимодействия между одноклассниками становится способ, основанный на неравенстве позиций и власти. Подобный контекст взаимоотношений, усугубленный педагогическим равнодушием, актуализирует внутриличностные предпосылки и переводит буллинг из разряда рисков в разряд действительности. Специалистам служб психолого-педагогического сопровождения в образовательных организациях необходимо вырабатывать общее поле согласованных представлений о характерных социально-психологических проявлениях деструктивного поведения, работать на закрепление в организационной культуре ценностных позиций, связанных с категоричной недопустимостью буллинга в школьных сообществах [4]. При этом такая работа должна опираться на оценку специфики взаимоотношений в детской и подростковой среде, современные особенности коммуникации, ориентироваться на использование адекватных форм интерактивного взаимодействия с применением разнообразных способов реального и виртуального общения, приемов поведенческого тренинга, игрового моделирования, геймификации и других актуальных форматов.
Список литературы Буллинг-поведение младших школьников: реальные риски современной среды начального образования
- Добряков И.В., Лисковский О.В. Механизмы формирования девиантного поведения в современных социокультуральных условиях // Российский девиантологический журнал. 2023. № 1. С. 10–16. DOI: 10.35750/2713-0622-2023-1-10-16
- Профилактика девиантного поведения обучающихся в условиях образовательной организации: коллективная монография / Е.Л. Афанасенкова, Н.Н. Васягина, Л.Е. Власова [и др.]; под ред. Н.Н. Васягиной, Е.А. Казаевой. Екатеринбург, 2018. 261 с.
- Современные подростки в эпоху глобальных перемен: от делинквентности к психологической безопасности / под науч. ред. Т.В. Бугайчук, В.В. Белкиной. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2022. 83 с.
- Филипенко Е.В. Профилактика девиантного поведения подростков в контексте духовно-нравственного воспитания // Российский девиантологический журнал. 2022. № 3. С. 308–316.
- 5. Кривцова С.В. Буллинг в школе VS сплоченность неравнодушных: организационная культура ОУ для решения проблем дисциплины и противостояния насилию. М.: Федеральный институт развития образования. 2011. 119 с.
- Assessing the Risk Factors of Cyber and Mobile Phone Bullying Victimization in a Nationally Representative Sample of Singapore Youth / T.J. Holt, S. Fitzgerald, A.M. Bossler et al. // International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2016. Vol. 60, № 5. P. 598–615. DOI: 10.1177/0306624X14554852
- The Predictive Efficiency of School Bullying versus Later Offending: A Systematic / Meta-analytic Review of Longitudinal Studies / M.M. Ttofi, D.P. Farrington, F. Lösel, R. Loeber // Criminal Behaviour and Mental Health. 2011. Vol. 21, № 2. P. 80–89. DOI: 10.1002/cbm.808.
- Бердышев И.С., Нечаева М.Г. Медико-психологические последствия жестокого обращения в детской среде. Вопросы диагностики и профилактики. СПб.: Речь, 2015. 117 с.
- Hawker D.S.J., Boulton M.J. Twenty Years’ Research on Peer Victimization and Psychosocial Maladjustment: A Meta-Analytic Review of Cross-Sectional Studies // Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. 2000. Vol. 41, № 4. P. 441–455. DOI: 10.1111/1469-7610.00629.
- Новикова М.А., Реан А.А., Коновалов И.А. Буллинг в российских школах: опыт диагностики распространенности, половозрастных особенностей и связи со школьным климатом // Вопросы образования. 2021. № 3. С. 62–90. DOI: 10.17323/1814-9545-2021-3-62-90
- Иванюшина В.А., Ходоренко Д.К., Александров Д.А. Распространенность буллинга: возрастные и гендерные различия, значимость размера и типа школы // Вопросы образования. 2021. № 4. С. 220–242. DOI: 10.17323/1814-9545-2021-4-220-242
- Besag V. Bullies and Victims in Schools // A Guide to Understanding and Management. Milton Keynes: Open University Press. 1989. 218 p.
- Olweus D. Bullying at school: what we know and what we can do. New York: Blackwel. 1993. 140 p.
- Буллинг как особый вид конфликта в детской и подростковой среде / Ю.С. Вторушина, С.В. Митрухина, Е.Н. Власова, В.П. Антонов // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 2022. № 4 (42). С. 90–99.
- Moos R. Evaluating educational environments: procedures, measures, findings and policy implications. San Francisco: Jossey-Bass. 1979.
- Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании. СПб.: Союз, 2002. 270 с.
- Баева И.А. Общепсихологические категории в практике исследования психологической безопасности образовательной среды // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. № 128. С. 27–39.
- Богомягкова О.Н. Психологическая безопасность личности в условиях инклюзивного образования // Ярославский педагогический вестник. 2013. Т. 2, № 4. С. 245–250.
- Ясвин В.А. Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, проектирование, управление. М.: Народное образование. 2019. 448 с.
- Каширский Д.В., Безугляк О.С. Развитие ценностей-идеалов на переходном этапе от дошкольного к младшему школьному возрасту // Ползуновский вестник. 2006. № 3. С. 116–124.
- Беляева О.А. Буллинг-стратегии детей младшего школьного возраста: специфика формирования и проявления // Cifra. Психология. 2024. № 1 (2). DOI: 10.18454/PSY.2024.2.1
- Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные особенности). Минск: Тетра Системс, 2017. 432 с.
- Бочавер А.А., Хломов К.Д. Буллинг как объект исследований и культурный феномен // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10, № 3. С. 149–159.
- Protecting children against bullying and its consequences / I. Zych, D.P. Farrington, V.J. Llorent, M.M. Ttofi. New York: Springer. 2017. 92 p. DOI 10.1007/978-3-319-53028-4
- Книжникова С.В. Профилактика девиантного поведения в условиях общеобразовательной школы: затруднения и ошибки // Российский девиантологический журнал. 2023. № 1. С. 75–90. DOI: 10.35750/2713-0622-2023-1-75-90
- Азерли Д.А., Петрова И.Э. Насилие в школе: взгляд современных российских исследователей // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2013. № 4 (32). С. 7–13.
- Глазман О.Л. Психологические особенности участников буллинга // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 105. С. 159–165.
- Olweus D. Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program // Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1994. Vol. 35б № 7. P. 1171–1190. DOI: 10.1111/j.1469‑7610.1994.tb01229.x.