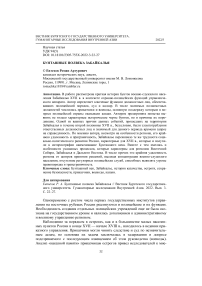Бунташные полвека Забайкалья
Автор: Евтехов Роман Артурович
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
В работе рассмотрена краткая история бунтов военно-служилого населения Забайкалья XVII в. в контексте охранно-полицейских функций управленческого аппарата. Автор определяет ключевые функции должностных лиц, обеспечивавших полицейский порядок, суд и надзор. В числе значимых полномочных должностей числились приказчики и воеводы, основную поддержку которым в вопросе полицейской охраны оказывали казаки. Автором предпринята попытка выявить не только характерные исторические черты бунтов, но и причины их породившие. Одной из важных причин данных событий, прошедших на территории Забайкалья в течение второй половины XVII в., безусловно, были злоупотребления ответственных должностных лиц и значимый для данного периода времени запрос на справедливость. По мнению автора, несмотря на особенности региона, его крайнюю удаленность и приграничность, Забайкалье переживало те же трудности социально-политического развития России, характерные для XVII в., которые и получили в историографии наименование Бунташного века. Вместе с тем имелись и особенности указанных процессов, которые характерны для регионов Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. В числе прочих это крайняя удаленность региона от центров принятия решений, высокая концентрация военно-служилого населения, отсутствие регулярных полицейских служб, способных выявлять угрозы правопорядка и трансграничность.
Бунташный век, забайкалье, история казачества, остроги, сохранение безопасности, приказчики, воеводы, казаки
Короткий адрес: https://sciup.org/148325647
IDR: 148325647 | УДК: 94(5) | DOI: 10.18101/2305-753X-2022-3-22-27
Текст научной статьи Бунташные полвека Забайкалья
Евтехов Р. А. Бунташные полвека Забайкалья // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2022. Вып. 3. С. 22‒27.
Одновременно с ростом числа первых государственных институтов управления на восточных рубежах России реализуются и полицейские и их функции. Необходимость создания отдельных полицейских учреждений еще не была осознана на государственном уровне и являлась дополнением к административному и военному управлению регионом.
Наблюдение за порядком в острогах, как и в большинстве малых населенных пунктов России в конце XVII — начале XVIII в., находилось в ведении приказного управления. Приказчики могли чинить следствие и суд по незначительным делам, но основная их задача заключалась в задержании и допросе подозреваемого с последующим извещением об этом руководства (воеводы). Анализ «наказной памяти» приказчикам острогов привел исследователей к мне- нию о неоднозначности исполняемых ими функций в этой сфере [1, с. 92]. Природно-климатические особенности и политическая конъюнктура могли противоположно определять их функциональные особенности. Еще с XVII в. приказчикам полагалось «ведать судом и расправою», что предполагало надзор за местным населением и служилыми людьми. В регионах же с нестабильной приграничной обстановкой и не всегда мирными ясачными областями как Забайкалье на первый план выходила оборонительная функция. К этому добавлялись поддержание безопасности острога, расстановка и надзор за караулами, осмотр порядка содержания оружия служилых людей и т. д. Тяжкие преступления всегда находились в полномочиях производства воевод.
Вся полнота непосредственной стражи правопорядка была в ведении служилых казаков, которые часто были загружены различными военностратегическими и оборонительными задачами. Относительно крупные воеводские города как Нерчинск кроме воинских команд могли иметь специальные должности городничих или городовых приказчиков, назначавшихся из дворян или детей боярских. Такая должность была предусмотрена в штате воеводской канцелярии Нерчинска [3, с. 13]. Известно, что городничие этого времени имели отношение к наблюдению за крепостью, состоянием фортификационных сооружений, казенных запасов в крепости, за пожарной безопасностью, сохранением тишины и спокойствия и пресечением корчемства и т. д. В других поселениях — зимовьях, острогах и небольших городах — без приказчиков соответствующие охранно-полицейские функции выполнял имевшийся на месте воинский начальник, который был полномочен в этот период, как правило, лишь для собственного круга воинских чинов, за которыми надзирали, пресекали и вели розыск беглых.
Почти абсолютная власть воевод, вызванная значительным отдалением приграничья от центра России, а также совмещением полицейских и судебных полномочий при почти бесправном населении без системы самоуправления, создавала широчайшие возможности для злоупотреблений. Единственным средством к пресечению такого поведения, особенно на дальних рубежах России, была систематическая замена воевод раз в несколько лет. Летописец так характеризовал местных управленцев: «Сибирь была наполнена присяжными разбойниками, кормящимися властями... для коих украсть, ограбить, даже убить человека из-за денег, продать душу за алтын считалось ни во что» [5, с. 57]. Такое положение дел, надо отметить, признавалось и центральной властью: «многие воеводы воруют лучшие ясачные соболя», «емлют себе многие взятки» и т. д.1
Нигде такие злоупотребления воевод не доходили до той степени, когда населению становилось совершенно «не можно жить», и после безрезультатной мольбы государю о смене воевод народ открыто поднимал против них бунт и своими силами пытался оградить себя от «воевод-разорителей, грабителей, мучителей» [5, с. 58]. Качество воеводского управленческого аппарата и его взаимодействие с обществом ярко иллюстрируются в работе Н. Н. Оглоблина, где приведены и прокомментированы архивные документы относительно Красноярского бунта 1695‒1698 гг.
Восточные рубежи России в этом отношении переживали те же процессы. Так, в Нерчинском остроге в 1673‒1676 гг. проходило восстание, связанное со злоупотреблениями приказчика П. Шульгина, который «...за взятки выпускал бурятских аманатов... скупал хлеб, курил из него вино, варил пиво, продавал, а другим есть нечего было по дороговизне хлеба, питались травою и кореньями; бил служилых кнутом и батогами, велел брать в руку батогов по пяти и шести» [7, с. 238]. Доведенные до отчаяния казаки отказались повиноваться приказчику. Дело приняло серьезный оборот: казаки не пустили его в приказную избу, выбрали нового приказчика.
В Сибири в течение XVII в. отказ от приказчиков и воеводы наблюдался часто. В том же Нерчинске 8 октября 1695 г. вспыхнуло новое восстание. Из отписки в Сибирский приказ Иркутского воеводы следует, что «Антону Савелову нерчинские служилые люди и всяких чинов жители от воеводства отказали и «держали ево, Антона, за карауломи выбрали, де, меж собой для расправ двух человек, сына боярского Исака Аршинского да пятидесятника Филипа Свешникова» [5, с. 58]. Выборные лица исполняли воеводские обязанности почти два года, до прибытия нового воеводы в 1679 г.
В 1696 г. приказчик Герасим Турчанинов жаловался на баргузинских казаков, называя их ворами, разбойниками, грабителями; «…напали на меня, на домишко мое и разрубили все без остатку, и женишку мою мучили и вязали, также и людишек моих в воду бросали» [5, с. 59]. Безусловно, не стоит воспринимать местное казачье население сквозь призму указанных фактов исключительно как варваров и разбойников. Казаки осознавали несправедливость и боролись с ней всеми доступными способами, в частности, и вполне законными — сообщая высшим начальникам и государю о злоупотреблениях местных управленцев, если же реакции на их сообщения не следовало, то они использовали единственный доступный им метод борьбы — бунт. Такое свободолюбие порождало и некоторые зачатки гражданской организации и даже прописанные договоры. В договоре служилых людей Селенгинского, Удинского, Кабанского и Ильинского острогов, составленном в апреле 1696 г., говорится: «есть ли начальные люди, воеводы и приказные учнут нам чинить какие напрасные обиды и налоги и какое разоренье и на них… государем бить челом … и быть нам… служилым людям всем заодно вместе».
Одним из самых массовых выступлений был «бунт заморских казаков против Иркутского воеводы А. Савелова в 1696 г . » [8, с. 422‒436]. В ответ на его злодеяния в 1696 г. казаки и служилые люди Удинского и Селенгинского острогов подняли восстание. Интересна в этом отношении челобитная удинского приказчика А. Бейтона, который, находясь в самой гуще событий, с должности казаками не был смещен: «удинские казаки взбунтовались и пограбили животы … и впредь грабить хвалятся, а унять их невозможно». Изрядно напугав воеводу своим приходом в Иркутск «с ружьем к городу и к воеводскому двору к нему, Афанасию [воеводе], приступили… и из пищалей к стрельбе на него…». Можно констатировать, что казаки не взбунтовались целиком против системы власти, существовавшей на тот момент, ведь удинского приказчика не тронули, ограбили и побили только людей воеводы и попытались наказать самого воеводу, из чего следует, что казаки пытались восстановить справедливость в собственном понимании и защитить себя от посягательств со стороны воеводы.
В Западной Сибири громкими делами часто занимались присланные государем сыщики. Для Восточной Сибири более характерно расследование таких дел присланным на место службы воеводой. Например, указом от 1 февраля 1701 г. в числе прочего новоназначенному Нерчинскому воеводе Ю. Бибикову было поручено окончить расследование убийства иркутского боярского сына С. Шестакова в 1695 г. казаками Аргунского острога и разделам его имущества между убийцами. Прежний воевода С. Николаев расследовал дело и выяснил, что Шестаков чинил разные обиды местным тунгусам, вследствие чего некоторые из них откочевали. Казаки вменили Шестакову в вину сокращение его действиями ясака, за что между ними завязалась перепалка и впоследствии он был убит. Указом воеводе было поручено «розыск… производить не очень жестокий, чтобы не смутить и не разогнать казаков», а «зачинщиков двух или трех человек наказать жестоко, сослать в Якутск»1. Но в связи со смертью Николаева его сын побоялся возобновить следствие «из опасения вызвать смуту». Такие дела обычно рассматривались быстрее остальных, так, в течение двух лет были расследованы убийства на Камчатских острогах и ограбление имущества приказчиков [9, с. 472], в результате которого из повинных 30 человек были казнены только зачинщики, остальные «биты кнутом нещадно». Таким образом, расследование и раскрытие преступных дел, творимых служилым сословием в дальних регионах, часто были затруднены не только их отдаленностью, но и слабостью власти на местах. Поэтому можем предположить, что нередко решение воеводы было продиктовано не столько законным основанием, сколько политическим положением и расстановкой сил его окружения. Не только расследования дел в этот период могли занимать годы, но и поиск преступников, даже в громких делах. Например, в 1703 г. был убит представитель знаменитого княжеского рода Гагариных Матвей Михайлович [12, с. 430] своим сыном Степаном. Последний скрывался от правосудия под другой фамилией, успел жениться и распоряжался оставленным ему отцом имением. Только в 1722 г. Степан был казнен за убийство отца.
В Забайкалье в последней трети XVII в. и на рубеже XVII‒XVIII вв. бунты, в общей хронологии не занимающие и половины века, очень показательны и в сущности отражают схожие социально-политические процессы окраин. В отсутствии регулярной службы защиты порядка и справедливости и независимого суда общество восточных окраин России, как и другие территории, что видно из аналогичных примеров по всей территории Сибири и Дальнего Востока, стремилось через имеющиеся у него возможности восстановить справедливость и защитить себя. Единственными средствами защиты общества были челобитные и бунты. Конечно, возможность устраивать бунты и защищать себя была больше у людей вооруженных, как служилых и казаков. Не всегда учиненный ими суд и расправа были гуманными, но всегда отражали видение справедливости сурового приграничного общества. При этом служилое и податное общества не находились на каком-то первобытном уровне жестокости, напротив, ими осознавалась необходимость сохранения порядка и спокойствия в регионе и их роль в этом. Иной вопрос, когда казаки считали справедливым жестоко наказать, порой даже ограбить зарвавшегося воеводу или приказчика, оправдывая это логикой — глаз за глаз, раз он ограбил нас, мы можем ограбить его. В этой структуре ценностей и понятий о справедливости могло не найтись места статусу воеводы как государева человека, ведь сами казаки тоже считали себя людьми государевыми. В числе различных социально-политических процессов, протекавших в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, включая Забайкалье, необходимо указать и характерные особенности, отличавшие эти процессы от тех, что протекали в Европейской части России, такие как крайняя удаленность региона от центров принятия решений, высокая концентрация военно-служилого населения, отсутствие регулярных полицейских служб, способных выявлять угрозы правопорядка и трансграничность.
Список литературы Бунташные полвека Забайкалья
- Бобров Д. С. Наказные памяти приказчикам острогов и слобод Западной Сибири в административно-правовой системе конца XVII — первой половины XVIII в. (по материалам кузнецкого уезда) // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 442. С. 87-95. Текст: непосредственный.
- Лезина Е. П. Воеводское управление пограничных территорий российского государства в XVII в. // Историко-правовые проблемы: Новый ракурс. 2011. № 4-2. С. 177-187. Текст: непосредственный.
- Николев И. Н., Найденов Н. А. Сибирские города. Материалы для их истории. XVII и XVIII столетия. Нерчинск. Селенгинск. Якутск. Москва: Типография М. Г. Волчаникова, 1886. 146 с. Текст: непосредственный.
- Чечерин Б. Н. Областные учреждения России в XVII веке. Москва: Типография Александра Семена, 1856. 606 с. Текст: непосредственный.
- Евдокимова С. В. Очерки истории городов Забайкалья. XVII-XVIII вв. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1993. Ч. 1. 247 а Текст: непосредственный.
- Оглоблин Н. Н. Красноярский бунт 1695-1698 годов: очерк из истории народных движений в Сибири. Томск: Паровая типо-лит. П. И. Макушина, 1902. 47 с. Текст: непосредственный.
- Соловьев С. М. История России с древнейших времен / ответственный редактор Л. В. Черепнин. Москва: Соцэкгиз, 1962. Кн. 7. 726 с. Текст: непосредственный.
- Сборник документов по истории Бурятии. XVII век / составители Г. Н. Румянцев, С. Б. Окунь. Улан-Удэ: АН Тип. Мин. Культ. БурАССР, 1960. Вып. 1. 493 с. Текст: непосредственный.
- Памятники Сибирской истории XVIII века / под редакцией А. И. Тимофеева. Кн. 1: 1700-1713. Санкт-Петербург: Тип. МВД, 1882. 541 с. Текст: непосредственный.
- История Сибири. Ч. II. Период с 1660 года до воцарения императрицы Елизаветы Петровны / составлена по данным, представляемым полным собранием законов и актам Петровского царствования В. К. Андриевичем. Санкт-Петербург: Типография В. В. Комарова, 1889. 487 с. Текст: непосредственный.
- Окунь С. Б. К истории Бурятии в XVII в. // Красный архив. 1936. № 3(76). С. 156-191. Текст: непосредственный.