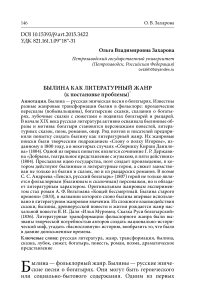Былина как литературный жанр (к постановке проблемы)
Автор: Захарова Ольга Владимировна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.13, 2015 года.
Бесплатный доступ
Былина - русская эпическая песня о богатырях. Известны разные жанровые трансформации былин в фольклоре: прозаические пересказы (побывальщины), богатырские сказки, сказания о богатырях, лубочные сказки с сюжетами о подвигах богатырей и рыцарей. В начале XIX века русская литература активно осваивала былинные образы и мотивы: богатыри становятся персонажами повестей, литературных сказок, поэм, романов, опер. Ряд поэтов и писателей предприняли попытку создать былину как литературный жанр. Их жанровые поиски были творческим подражанием «Слову о полку Игореве», изданному в 1800 году, а в некоторых случаях «Сборнику Кирши Данилова» (1804). Одной из первых попыток является сочинение Г. Р. Державина «Добрыня, театральное представление с музыкою, в пяти действиях» (1804). Прославляя идею государства, поэт создает произведение, в котором действуют былинные и литературные герои, а сюжет заимствован не только из былин и сказок, но и из рыцарских романов. В поэме С. С. Андреева «Левсил, русский богатырь» (1807) герой не только является фольклорным (былинным и сказочным) персонажем, но и обладает литературным характером. Оригинальным жанровым экспериментом стал роман А. Ф. Вельтмана «Кощей бессмертный. Былина старого времени» (1833), в названии которого слово былина впервые использовано в литературном жанровом значении. Из сложного взаимодействия сказки, былины, древнерусской повести и жития рождается жанр пасхальной повести В. И. Даля «Илья Муромец. Сказка Руси богатырской» (1836). Литературные трансформации фольклорного жанра были вызваны творческой потребностью авторов создать национально-исторический миф, угадать «баснословную» историю, вообразить то, что было в давние дописьменные времена.
Русская литература, жанр, трансформация, былина, сказка, лубок, сюжет, богатырь, повесть, роман, поэма, драматическое представление
Короткий адрес: https://sciup.org/14748926
IDR: 14748926 | DOI: 10.15393/j9.art.2015.3422
Текст научной статьи Былина как литературный жанр (к постановке проблемы)
Былина — фольклорный жанр. Былины — русские эпические песни о богатырях. Они могут быть героического или социально-бытового содержания. Одним из первых определение былины через отношение к сказке дал К. С. Аксаков в работе «О различии между сказками и песнями русскими: по поводу одной статьи»1. Он впервые указал на их различие по форме презентации жанра: сказка — сказывается, а былина — поется. К. С. Аксаков отмечал, что «предмет песни или религиозный (стихи), или народный: народные события, историческая и бытовая жизнь; или частный: событие и чувство личное. Все это — быль. Певца и сочинителя в песне не слышно»2. По мнению К. С. Аксакова, своеобразие былины состоит в том, что хотя в песнях «нельзя не признать чародейственного элемента, но он всегда на враждебной стороне, противен Русскому духу, и богатыри Русские не только не почерпают в нем сил, но постоянно ведут с ним бой, прибегая с молитвою к одному Богу…»3.
Подробное определение былины дал в свое время И. Лось. Он выделил такие жанровые признаки былины: «Былины являются эпическими песнями о русских богатырях; именно здесь мы находим воспроизведение общих, типических их свойств и историю их жизни, их подвиги и стремления, чувства и мысли. Каждая из этих песен говорит, главным образом, об одном эпизоде жизни одного богатыря и таким образом получается ряд песен отрывочного характера, группирующихся около главных представителей русского богатырства <…> Все былины, кроме единства описываемого предмета, характеризуются еще единством изложения: они проникнуты элементом чудесного, чувством свободы и (по мнению Ореста Миллера) духом общины» 4 . Внешнее же единство былины прежде всего И. Лось видел в стихе, слоге и языке 5 .
В. Я. Пропп выделил следующие признаки жанра:
«наиболее важным, решающим признаком эпоса является героический характер его содержания» [14, 5];
«он слагается из песен, которые предназначены не для чтения, а для музыкального исполнения» [14, 6];
«весь стихотворный фольклор всегда поется», стихотворная форма эпических песен тесно связана с напевом [14, 7].
К этим признакам можно добавить, что содержание былины имеет установку на достоверность, реальность. Сказитель всегда верит, что события, о которых поется в былине, действительно имели место, и трактует их как историческое прошлое.
В фольклоре представлены разные жанровые трансформации былин: прозаические пересказы, богатырские сказки, сказания о богатырях и др. В записях XVIII — первой половины XIX веков сохранилось более сорока рукописных текстов, передающих десять былинных сюжетов. Среди них А. М. Астахова и В. В. Митрофанова выделяют следующие группы: записи былин, тексты «со значительным <…> разрушением стихотворного склада при переписке», «прозаические пересказы былинных сюжетов», тексты, содержащие «следы сознательной литературной обработки» [4, 14]. Эти неоднородные по-своему характеру тексты опубликованы в издании «Былины в записях и пересказах XVII–XVIII веков» под редакцией А. М. Астаховой, жанровым определением которых являются «повесть», «сказание», «история» («гистория») 6 .
Рассматривая сказочные трансформации былины, А. М. Астахова указала на неоднородность прозаических рассказов о богатырях. Исследовательница выделила три типа: первый — побывальщина — «устные рассказы, в которых ощущается еще крепкая связь с былиной и по содержанию, и по стилю, хотя они и утратили не только напев, но и стихотворную структуру» [3, 3], второй — рассказы о богатырях, которые «сохраняют связь с былиной только в содержании сюжета в целом или в содержании отдельных его эпизодов <…> художественная структура, весь стиль полностью соответствуют жанру сказки» [3, 4], третий — «некоторые рассказы о богатырях близки к типу преданий и легенд» [3, 4] в иноязычном фольклоре. По мнению А. М. Астаховой, «грань между побывальщиной и сказкой иногда трудно уловима», так как «освобождение от стихотворной формы уже создает условия для переключения сюжета в художественную систему сказочного жанра» [3, 4], в результате чего они «теряли в известной мере свой строгий, величавый характер, отступали от “эпической историчности”, нередко растворялись в авантюрно-занимательном повествовании» [3, 115]. Используя былинный сюжет, сказка, как заметила исследовательница, «влечет за собой насыщение их чисто бытовыми сценами», однако «полностью сказочная стихия былинные сюжеты не поглощала, не ассимилировала» [3, 115].
В последней трети XVIII века в России формируется лубочная сказка. Как отмечает К. Е. Корепова, основная форма лубочной сказки — «печатный текст»: «В этом отношении она литературна. Сказка жила в лубочных книжках и лубочных картинках» [7, 35]. Это были картинки с текстом и тексты с картинками. Позднее текст на лубочной картинке «“разросся” и потеснил изображение», а «надпись стала развернутой» [7, 35]. Жанровыми атрибутами лубочной сказки К. Е. Корепова называет повествовательность, рассказ с целью развлечения, фантастическое содержание [7, 28–29]. В ней реализована установка «на условную достоверность, а отсюда определенный тип пространства и времени, тип имен» [7, 54]. Популярными лубочными сюжетами были сказки о богатырях и рыцарях.
В тезаурус современного русского языка слово былина вошло из «Слова о полку Игореве» 6 . Читатели и писатели поняли выражение «по былинам сего времени» как указание на известный, но забытый жанр.
На близость «Слова» эпической поэзии критики обратили внимание вскоре после публикации произведения 7 . Этому способствовала публикация в 1804 году «Сборника Кирши Данилова». В нем собраны произведения, жанр которых К. Калайдович в предисловии ко второму изданию называл то «древними русскими стихотворениями» (вариант: «российскими»), то «древними богатырскими песнями», то «былевыми песнями», то «сказками» 8 .
Русская литература XVIII–XIX веков часто обращалась к былинным героям и сюжетам. Они становились персонажами и мотивами повестей, литературных сказок, поэм, романов, опер. Наряду с богатырями те же роли в повествованиях играли рыцари из переводных произведений или вымышленные герои подражательных «рыцарских» сочинений. В литературе происходил двойной перевод: с одного языка на другой и адаптация литературного типа героя «чужой» культурой. Рыцарь становился богатырем, богатыри воспринимались рыцарями [11]. Таковы герои переводных повестей Бова Королевич, Еруслан Лазаревич, герой сказки «Петр златых ключей» и др. [1], [2], [6], [8], [9], [10], [12], [15].
Литературные трансформации жанра былины были вызваны попыткой создания национально-исторического мифа, угадать предание, создать «баснословную» историю, вообразить то, как это могло быть в досторическое время, когда не вели летописание, осмыслить то, что есть в русском и зарубежном фольклоре.
Одной из первых попыток создания пантеона русских языческих богов, как в греческой мифологии, стала поэма С. С. Андреева «Левсил, русский богатырь» (1807). Сюжет поэмы — сказочный. Поэт достаточно полно передает содержание сказки о молодильных яблоках. И. П. Лупанова отмечает, что «основная линия, по которой идет трансформация народно-поэтического текста», связана с образом бабы-яги: «…пересаженный в поэму из фольклорного источника сказочный образ преображается, приводясь в соответствие с “волшебно-рыцарским” штампом чулковско-левшинских сборников» [13, 40]. Другим источником «Левсила» исследовательница называет поэму Карамзина «Илья Муромец» [13, 40–41].
Герой поэмы С. С. Андреева — «странствующий рыцарь», «витязь». В былине богатырь совершает подвиги. В поэме они редуцированы. О них говорят, но они не показаны. Так, величая Левсила, баба-яга напоминает витязю:
Ты прошел леса дремучие;
Ты минул пески сыпучие;
Превозмог ты трудность гор крутых;
Победил в своем ты странствии, И полканов, и змей огненных, И русалок, усыпляющих
Своим сладким вредным пением 9 .
Традиционный былинный мотив — поединок между богатырем и богатыршей, но в поэме он заканчивается, не успев начаться: нагнав соперника, Царь-девица сражена стрелой Купидона:
Это мщением кипящая
Царь-девица в броне рыцарской
Настигает вероломного — Чтоб разить, карать, губить его, Чтобы душу низпослать мечем В черный тартар одним замахом — Миг — достигла! — вознесен удар — «Стой! — в моем он покровительстве» — И Царевна держит вздетую.
Это голос был бессмертный, Лады вечно младо-ликой — На златом лазурном облаке Ставшей между мщеньем дышащей И смятенным, бледным Витязем… 10
Как и в поэмах Гомера, события и поступки героев объясняются вмешательством языческих богов в дела людей.
Вместо богатырских подвигов Левсил претерпевает сказочные приключения: получает трудно исполнимую задачу —добыть молодильные яблоки для отца, достойно проходит все испытания, в которых обретает помощников и невесту. В сюжете поэмы на первый план выступают волшебно-сказочные образы и мотивы: молодильные яблоки, добрая помощница баба-яга, спящая красавица Царь-девица, волшебный конь, ковер-самолет. Завершается поэма сказочно: свадьбой Левсила и Царь-девицы, двенадцати девиц и двенадцати витязей.
Левсил в поэме Андреева — литературный характер. И. П. Лупанова назвала его «рыцарем-меланхоликом» [13, 486]. Эта черта характера проявляется в рефлексии героя по разным поводам и сюжетным ситуациям поэмы. Их дополняют авторские отступления и примечания, которые являются атрибутом не былины или сказки, а другого жанра — поэмы.
Интересным эпизодом освоения фольклорных жанров является сочинение Г. Р. Державина «Добрыня, театральное представление с музыкою, в пяти действиях» (1804). На титульном листе экземпляра, принадлежавшего поэту, имеется запись, сделанная Е. Н. Львовой, по предположению Я. Грота, со слов Державина: «Все действия взяты частию из истории, частию из сказок и народных песней» 11 .
Представляя оперу как жанр, Г. Р. Державин писал, что она «не есть изобретение одной Италии, как многие думают; но она в некоторых отношениях есть не что иное, как подражание древней греческой трагедии» 12 . Указывая на значение чудесного и волшебного в опере, поэт отмечает, что сочинитель ее «смело уклоняется от естественного пути и даже совсем его выпускает из виду; ослепляет зрителей частыми переменами, разнообразием, великолепием и чудесностию приводит в удивление, не смотря на то, естественно или неестественно, вероятно или невероятно» 13 . Он писал: «По принятому издревле обыкновению, ради своей чудесности, Опера <…> почерпает свое содержание из языческой мифологии, древней и средней истории. Лица ее — боги, герои, рыцари, богатыри, феи, волшебники и волшебницы» 14 . По его мнению, опера «есть живое царство поэзии», «сокращение всего зримого мира», в ней «видишь пред собою волшебный, очаровательный мир, в котором взор объемлется блеском, слух гармониею, ум непонятностию, и всю сию чудесность видишь искусством сотворенну, а притом в уменьшительном виде, и человек познает тут все свое величие и владычество над вселенной» 15 .
В опере действуют былинные герои: князь Владимир, До-брыня (богатырь новгородский, сродник Владимира), Змей Горыныч = Змеулан Змеуланыч = Тугарин Тугариныч (царь и чародей болгарский), Тороп, и литературные: Прелепа (княжна изборская, невеста Владимирова), Добрада, жрецы, бояре, горожане и др.
Преемственность оперы и былины обнаруживается не только в выборе героев, но и в сюжете змееборства, который, в свою очередь, является контаминацией двух эпических сюжетов: «Добрыня и змей» и «Алеша и Тугарин». Как и в былине, действие в опере происходит в Киеве, но Державин создает образ языческого города. Впрочем, сюжет оперы Державина заимствован не только из былин, но и из рыцарских романов, в которых происходит испытание героев на «верность в любви и верность рыцарскому долгу-кодексу» [5]: в ней есть соперничество князя Владимира, Добрыни и Тугарина.
Державин предпринял попытку создания нового жанра. На основе разных жанров (былины, сказки и романа) он создает произведение, в котором влюбленные обретают счастье, зло наказано, прославляется идея государства.
Одним из первых слово былина в литературном значении употребил А. Ф. Вельтман в названии романа «Кощей бессмертный. Былина старого времени» (1833). Кроме заглавия, слово встречается в тексте произведения. Примечательно, что сначала оно переведено с татарского «наречия» и определяет татарскую быль XIII столетия «Гюльбухар». Отметим возникшую синонимичность в диалоге понятий повесть и былина . В ответ на просьбу вещуньи («не слюбна мне твоя повесть о Бир-Адаме, расскажи другую, былину сего времени!») следует ответ: «…я не сказка буду говорил, а всякой былина , начинаесе по нашему богом, — отвечал Татарин своим наречием» 16 . Впрочем, остаются вопросы, как слово былина звучит на татарском языке? почему предание из Орды Урги названо былиной? Этот «сумбур Татарский» продолжил иерей Симон в главе «Кощей…»: «Почну вам былину, поведаю повесть смысленую, хвальную, древнюю правду» 17 . Свои предания есть у конюха Лазаря, с которым спорит автор: «Много хитрых и чудных вещей знает Лазарь, да не со сказки Лазаря моя былина писана» 18 . В причудливой фантазии А. Ф. Вельтмана смешаны богатырская сказка, эпическая песнь, пародийный роман, книжные и устные предания из русской, татарской и мировой истории. Очевидно, что здесь былина не фольклорный жанр, а предание, которое, несмотря на всю фантастичность, выдается за быль; слово могло бы стать литературным жанром, но его поэтический потенциал не получил развития в романе Вельтмана.
В 1836 году в «Северной пчеле» В. И. Даль опубликовал оригинальное сочинение «Илья Муромец. Сказка Руси богатырской», название которого ставит проблему жанра: былинный богатырь стал героем сказки.
Сюжетом «Ильи Муромца» является чудесное исцеление и подвиги богатыря. Автор раскрывает эпическую биографию героя: освобождение Чернигова от татар, одоление Соловья-разбойника, освобождение Киева от Калин-царя,
Илья Муромец и разбойники, бой Ильи Муромца с сыном. В сказку включены два рассказа: рассказ о том, как перевелись на Руси богатыри, и рассказ о подвигах русских богатырей. Как и в былине, действие в повести Даля происходит во время правления князя Владимира, встречаются такие былинные мотивы, как заминка богатырского коня, встреча и поединок Ильи Муромца с детьми Соловья-разбойника, желание князя Владимира услышать свист Соловья-разбойника. К этим мотивам он добавляет новые: крещение разбойников, освобождение от Литвы и крещение Кинешмы, избавление Киева от «чудища пса-богатыря» Полкана Пол-кановича, заимствованное из лубочной сказки.
В «Сказке Руси богатырской» В. Даль разъясняет читателю концепции двух фольклорных жанров: «Говорится: сказка складка, а песня быль: песня быль, да одинокая, а сказка складка, сложена складчиною, да братчиною; песню поет запевало, сказку семь колен одним говором вслух начитывают; песня дорогá напевом, а сказка правдою — песня ладом, а сказка складом живет!» 19 .
Даль следует литературной традиции: его сочинение ориентировано не только на сказку или былину (старину), но и на «Слово о полку Игореве» и «Задонщину», заметно влияние житийной традиции. Оно проявляется в таких мотивах, как рождение героя от благочестивых родителей, испытание героя и его личная благочестивость, чудо исцеления происходит на Пасху, время его исцеления совпадает с прощением грехов деда Тимофея, старца Илариона. Примечательно, что ключевые события в «Сказке» Даля (исцеление и подвиги Ильи Муромца) совершаются в ночь на Пасху.
В. Даль создал произведение, жанр которого возникает в сложном взаимодействии сказки, былины, древнерусской повести и жития. Жанровая структура произведения включает в себя притчи, предание, историю образования поговорок. Объединяющим событием в повести является христианский хронотоп. Все основные события происходят в ночь на Пасху: рождение богатыря, его исцеление, освобождение Брянских и Брынских лесов, Кинешмы и Чернигова. В результате автор создал новую жанровую разновидность — пасхальную повесть.
Во второй половине XIX века в русской литературе была предпринята попытка создания былины как литературного жанра. В поисках нового национально-героического жанра писатели ориентировались на «Слово о полку Игореве» и «Сборник Кирши Данилова», но у каждого из них получались разные, непохожие друг на друга произведения: богатырские сказки, поэмы, повести, пасхальная повесть, роман. Оригинальную концепцию былины как литературного жанра в 1860-е годы предложил Ф. М. Достоевский, но его идея осталась в переписке с Ап. Майковым и не была реализована ни тем, ни другим. В целом попытка создания былины как литературного жанра имела «побочный» эффект — многообразие жанровых трансформаций.
Примечания
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект 15-04-00366 а.
-
1 Аксаков К. С. О различии между сказками и песнями русскими: по поводу одной статьи // Аксаков К. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1861. С. 399–408.
-
2 Там же. С. 400.
-
3 Там же. С. 401–402.
-
4 Лось И. Былины // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 5. СПб., 1891. С. 142–143.
-
5 Там же. С. 143.
-
6 Былины в записях и пересказах XVII–XVIII веков / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); изд. подгот. А. М. Астахова (отв. ред.), В. В. Митрофанова, М. О. Скрипиль. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 320 с.
-
7 Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ удѣльнаго князя Новагорода-Сѣверскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходѣ XII столѣтія съ переложеніемъ на употребляемое нынѣ нарѣчіе (1800). М.: Сенатская типографiя. С. 46.
-
8 См. работы: Цертелев Н. Д. Взгляд на русские сказки и песни и повесть в духе старинных русских стихотворений. СПб., 1820. С. 4, при-меч. 2; Цертелев Н. Д. О произведениях древней русской поэзии // Сын Отечества. 1820. № 30. Ч. 63. С. 149–152; Полевой Н. А. История русского народа. М., 1830. Т. 2. С. 261–264; Т. 3. С. 108, 109, 112, 389–403; Буслаев Ф. И. Русская поэзия XI и начала XII века // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Ник. Тихонравовым. М., 1859. Т. 1.
-
С. 3–31; Слово о полку Игореве / изд. для учащихся Н. Тихонравовым. М., 1866. 68 с.; Полевой Н. А. Рец. на кн.: Слово о полку Игореве / изд. для учащихся Н. Тихонравовым. М., 1866 // Журнал министерства народного просвещения. 1867. Февраль. С. 441–455.
-
9 Калайдович К. Предисловие // Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым и вторично изданныя, с прибавлением 35 песен и сказок, доселе неизвестных, и нот для напева. М., 1818. С. I– XXXVI.
-
10 Андреев С. С. Левсил, русский богатырь. СПб., 1808. С. 17.
-
11 Там же. С. 38–39.
-
12 Державин Г. Р. Добрыня // Державин Г. Р. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 4. СПб., 1867. С. 48.
-
13 Державин Г. Р. Рассуждение о лирической поэзии // Державин Г. Р. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 7. СПб., 1872. С. 598.
-
14 Там же. С. 603.
-
15 Там же.
-
16 Там же. С. 601–602.
-
17 Вельтман А. Ф. Кощей Бессмертный. Былина старого времени // Вельтман А. Ф. Романы. М.: Современник, 1985. С. 66.
-
18 Там же. С. 123.
-
19 Там же. С. 170.
-
20 Даль В. И. Илья Муромец. Сказка Руси богатырской // Повести, сказки и рассказы казака Луганского: в 4 ч. СПб.: Гутенбергова тип., 1846. Ч. 4. С. 68.
Список литературы Былина как литературный жанр (к постановке проблемы)
- Список литературы
- Алексеев М. П. К истолкованию поэмы А. Н. Радищева «Бова»//Радищев. Статьи и материалы. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1950. -С. 158-213.
- Астахова А. М. К вопросу об отражениях в русском былинном эпосе сказания о Еруслане//Труды Отдела древнерусской литературы/АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. - XIV. -С. 504-509.
- Астахова А. М. Народные сказки о богатырях русского эпоса/АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. -120 с.
- Астахова А. М., Митрофанова В. В. Былины и их пересказы в рукописях и изданиях XVII-XVIII веков//Былины в записях и пересказах XVII-XVIII веков. -М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1960. -С. 7-75.
- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. -М.: Худож. лит., 1975. -504 c.
- Гистер М. А. Образ Алеши Поповича в русской литературной сказке XVIII -начала XIX века//А. М. П.: Памяти А. М. Пескова. -М.: РГГУ, 2013. -С. 158-183.
- Корепова К. Е. Русская лубочная сказка. -М.: ФОРУМ, 2012. -464 с.
- Костюхин Е. Древняя Русь в рыцарском ореоле//Приключения славянских витязей: из русской беллетристики XVIII века. -М.: Худож. лит., 1988. -С. 5-20.
- Кузьмина В. Д. Сказка о Бове в обработке А. Н. Радищева//Проблемы реализма в русской литературе XVIII в. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. -С. 257-291.
- Кузьмина В. Д. Французский рыцарский роман на Руси, Украине и Белоруссии: («Бова» и «Петр Златые Ключи»)//Славянская филология. -М.: Изд-во АН СССР, 1958. -Т. 2. -С. 355-396.
- Курышева Л. А. Повести о богатырях в «Русских сказках» В. А. Левшина: сказочно-историческая модель повествования. -Новосибирск: Наука, 2009. -152 с.
- Лотман Л. «Бова» Радищева и традиция жанра поэмы-сказки//Ученые записки ЛГУ. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1939. -№ 33. Серия филологических наук. Вып. 2. -С. 134-147.
- Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. -Петрозаводск: Гос. изд-во Карельской АССР, 1959. -503 с.
- Пропп В. Я. Русский героический эпос. -М.: Гос. изд-во худ. лит., 1958. -603 с.
- Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа. -СПб.: Тип. СПб. Т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1910. -Т. 1. -Вып. 2. XVIII-ый век. -944 с.