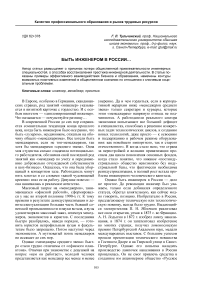Быть инженером в России
Автор: Тульчинскии Г.Л.
Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo
Рубрика: Качество профессионального образования и рынок трудовых ресурсов
Статья в выпуске: 2 (4), 2013 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи размышляет о причинах потери общественной привлекательности инженерных специальностей, о способах восстановления престижа инженерной деятельности. В статье показаны примеры эффективного взаимодействия бизнеса и образования, намечены контуры возможных позитивных изменений в общественном сознании по отношению к ключевым социальным проблемам.
Инженер, менеджер, престиж
Короткий адрес: https://sciup.org/14213438
IDR: 14213438 | УДК: 62+378
Текст научной статьи Быть инженером в России
В Европе, особенно в Германии, скандинавских странах, род занятий «инженер» указывается в визитной карточке с гордостью. И с особым пиететом — «дипломированный инженер». Что называется — почувствуйте разницу…
В современной России до сих пор сохраняется сомнительная тенденция конца прошлого века, когда быть инженером было все равно, что быть «лузером», неудачником, отжатым на обочину общего «менеджеризма». Все хотели быть менеджерами, если не топ-менеджерами, так хотя бы менеджерами «среднего звена». Одна моя студентка сильно озадачила потенциального работодателя, обозначив свой последний род занятий как «менеджер по учету и передвижению добровольно отчуждаемой собственности в шоу-бизнесе». Оказалось, что она была уборщицей в концертном зале. Работодатель минут пять хохотал и со словами «какой чудовищный креатив» взял ее на работу. Девушке повезло — она нанималась в рекламное агентство.
Массовый запрос на «менеджеров», занимающихся «офисной работой», сформировался у нас во второй половине 1990-х гг. К тому времени в результате деиндустриализации и деинтеллектуализации б о льшая часть бывшей советской промышленности и науки встала, а вузы удовлетворяли массовый заказ, штампуя менеджеров, экономистов и юристов. С последними быстро разобрались, наведя порядок, — готовить юристов непрофильным вузам и факультетам было запрещено. Потом наступил черед экономистов. А мутноватый поток менеджеров не иссякает до сих пор.
Однако «менеджеры среднего звена» быстро стали трудно отличимы от «офисного планктона». Отвечая при знакомстве с девушкой на вопрос «кем он работает», молодой человек представляется как менеджер все менее и менее уверенно. Да и чем гордиться, если в корпоративной иерархии ниже «менеджеров среднего звена» только секретари и курьеры, которые этим «менеджерам» напрямую отнюдь не подчиняются. А работодатели реального сектора экономики испытывают все больший дефицит в специалистах, способных к решению конкретных задач технологических циклов, к созданию новых технологий, даже просто — к освоению и поддержанию в рабочем режиме оборудования: как новейшего импортного, так и старого отечественного. И когда стало ясно, что страна за перестройкой и волнами приватизации проспала два цикла поновления основных фондов, когда стало понятно, что никакое «постиндустриальное» общество невозможно без индустриальной базы, что фактически необходима реиндустриализация, в полный рост встала проблема инженерного человеческого капитала.
Однако быть инженером в России — дело не простое. До революции инженер был уважаем, только если добивался определенного статуса, обретал влиятельную, как сейчас модно говорить, позицию. Изобретателю в России, предлагающему техническую или технологическую новинку, всегда было трудно. Выдающийся электротехник П. Н. Яблочков реализовал все свои открытия, уехав в 1875 г. во Францию. А. Н. Лодыгин в 1872 г. изобрел лампу накаливания, в 1874 г. он запатентовал изобретение во многих странах, получил ломоносовскую премию Петербургской Академии наук, медали международных выставок. С большим успехом прошли презентации технического новшества в Гостином Дворе и на Тверской улице в Санкт-Петербурге. Однако его попытка наладить производство лампочек накаливания в России провалилась. Он не смог привлечь средства в созданное им акционерное общество «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°». Более того, ему было недвусмысленно указано, что электрификация уличного освещения лишит работы многочисленных фонарщиков, обслуживающих газовые фонари, а их уважаемых работодателей оставит не у дел. В 1884 г. он уехал за границу и работал в той же Франции и США, где построил несколько заводов, обеспечивающих массовое производство лампочек накаливания. Будучи большим патриотом России, в 1907 г. вернулся на родину, привезя с собой целую серию изобретений в чертежах и набросках. Но не получив поддержки ни от царского (предложившего ему работу сначала в трамвайном парке, а потом в сельской глубинке), ни от Временного правительства и не сработавшись с новой властью, из-за материальных трудностей вернулся с семьей в США. Аналогичной была судьба и других выдающихся российских инженеров. Достаточно вспомнить биографии авиаконструктора И. И. Сикорского, изобретателя телевидения В. К. Зворыкина…
Да, честно говоря, и в советское время профессия «инженер» была по ее социальному статусу неоднозначная. С одной стороны, воспевались достижения советских инженеров, конструкторов, а с другой — сколько было анекдотов об их полунищенской зарплате! Да и со временем скопление инженеров в НИИ и КБ все отчетливее приобретало очертание коллектора скрытой безработицы. Карьерный путь советского инженера был достаточно прост: просто инженер — старший инженер — ведущий инженер. С соответствующими ступенями заработной платы в 120, 150 и 180 советских руб. Иначе говоря, человек перед отправкой на пенсию получал зарплату всего на 50 % большую, чем та, которую он получал выходя на работу после окончания вуза. Фактически это был карьерный тупик, измерявшийся тремя вехами: просто инженер — старший инженер — состарившийся старший инженер.
И причиной такой девальвации стало все то же перепроизводство инженеров, которое само по себе тоже носило двойственный характер. Вроде бы престижный социальный статус практически выродился в нечто парадоксальное. Квалифицированный рабочий в СССР получал обычно как минимум в два-три раза больше, чем инженер, а на отдельных оборонных предприятиях — в пять-шесть. При этом не следует забывать, что рабочие обладали приоритетом для вступления в КПСС, тогда как вступление в партию инженерам ограничивали мизерными квотами. А членство в партии «рабочих и кре- стьян» открывало массу возможностей и перспектив: быстрое прохождение очереди на квартиру, получение льготных курортных путевок, более обильные продовольственные заказы, а также прочие материальные и нематериальные блага, не говоря о карьерном росте в партийной, административной и хозяйственной номенклатуре.
Тогда почему и зачем юноши и девушки так рвались в советские вузы, пополняя и пополняя армию низкооплачиваемых инженеров и младших научных сотрудников? Ради чего родители по всей советской стране всеми правдами и неправдами пристраивали своих детей — смышленых и не очень — в вузы? Ответ довольно прост: «Пусть 120 руб., зато работа чистая, в белом халате и за кульманом, а не в горячем цеху в грязи с бухими работягами». «Умственный труд», возможность «не работать руками» потомками рабочих и крестьян, особенно их родителями, сами по себе, т. е. вне зависимости от оплаты, воспринимались как привилегия. Советские инженеры и «эмэнэсы» (младшие научные сотрудники), являвшиеся советским аналогом нынешних «менеджеров», испытывали многочисленные комплексы по поводу своих более чем скромных заработков, но одновременно были преисполнены гордыней: мол, зато они не работают руками, как какие-то «пролли». Это давало чувство «избранничества», некоего интеллектуального «барства», принадлежности к «элите».
Такое отношение общества к инженерному делу не могло не сказаться. Оно и сказалось во время реформ, ориентированных на решение всех проблем общества сугубо политическими и макроэкономическими методами на основе ускоренной приватизации и финансового менеджмента. Последствия оказались очевидными. В результате приватизации было утрачено важнейшее звено между наукой и производством — та самая сеть многочисленных отраслевых НИИ и КБ, которые доводили научные разработки до конкретных технологий и обеспечивали их внедрение. Новые собственники просто не знали, что с ними делать, и теперь эти здания переоборудованы в не менее многочисленные сдаваемые в аренду «бизнес-центры». Не поновляемая, изношенная индустриальная база и без того большей частью малоконкурентная была быстро утрачена. Экономика страны семимильными шагами превращалась из индустриальной в сырьевую, рентно-спекулятивную по своей сути. Что имело и свои политические последствия. Горбачевскую перестройку, Б. Н. Ельцина и его команду «младореформаторов» поддержала наиболее образованная часть общества, а прежде всего — ИТР, которые как раз больше всех и потеряли от этих преобразований. В итоге это привело не только к «разочарованию» российской общественности в реформах, но и к дискредитации великих идей демократии и либерализма в российском общественном сознании.
А между тем никакое «постиндустриальное», «информационное» и «постинформационное» общество невозможно без индустриальной базы. Поэтому современная Россия сталкивается не просто с задачей поновления основных фондов, а с необходимостью реиндустриализации, создания новой индустриальной базы.
Даже сохранившиеся основные фонды нуждаются хотя бы в их поддержании. Да и строительство, ремонт «дворцов культуры общества массового потребления» в виде ТРЗ и бизнесцентров нуждаются в обеспечении. Неспроста квалифицированные рабочие зачастую получают зарплату существенно большую, чем «планктон», обитающий в этих «аквариумах». Высококвалифицированный плиточник, каменщик, сварщик могут получать больше 100 тыс. руб. не только в Москве, в провинции 100 тыс. — это куда больше, чем 100 тыс. в Москве или Питере. Даже квалифицированные гастарбайтеры занимаются ремонтом квартир в столицах отнюдь не за миску супа, а могут получать до 300 тыс. руб. в месяц (что превышает уровень мечтаний большей части «менеджеров» по маркетингу) и при этом еще и диктовать свои условия нанимателям.
А в серьезных компаниях все чаще приходят к пониманию, что толковый инженер, опытный технолог в большей степени составляют «человеческий капитал» компании, чем «креативные» менеджеры по рекламе. После проведенных практически одновременно кампаний ребрендинга МТС (с его странноватым «яйцом») и Билайн (чьи «полосатые штучки» побеждали на всех конкурсах рекламистов), капитализация Билайн упала, а МТС возросла. Дело оказывается не только и не столько в яркой рекламе, сколько в охвате и качестве связи.
Наметились и соответствующие подвижки на рынке труда, вызвавшие слегка запоздалые телодвижения в поступлениях в вузы: ручеек абитуриентов потянулся в технические вузы на инженерные специальности. Более того, наметилась важнейшая тенденция прихода бизнеса в интересующие его вузы. И это прежде всего именно вузы, готовящие инженеров. Что особенно показательно, происходит это в новых, растущих, перспективных отраслях.
Так, в Санкт-Петербурге, в силу отмеченных выше причин деиндустриализации, машиностроение и судостроение — традиционно ведущие отрасли городской экономики, составившие его славу, — утратили свое ведущее положение. На первые позиции вышла пищевая промышленность. Однако в городе без особого участия государства возникли и интенсивно развиваются кластеры производства программного обеспечения и фармакологии нового поколения. И само собой разумеется, что такой бизнес решающим образом зависит от возможности привлечения свежих молодых мозгов. Этот запрос нашел отклик и понимание в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии.
На базе ИТМО был создан технопарк — своего рода инкубатор специалистов, которые со студенческой скамьи участвуют в разработке и продвижении программных продуктов в формате аутсорсинга, а то и уже создавая новые рабочие места. Это создало основу для глубокого сотрудничества университета и НП РУССОФТ, которое является крупнейшим и наиболее влиятельным объединением компаний-разработчиков программного обеспечения России. Центральный офис Партнерства находится в Санкт-Петербурге, став в 2004 г. результатом слияния Консорциума «Форт-Росс » с национальной Ассоциацией разработчиков программного обеспечения. Сегодня в кластер входят более 60 компаний, работающих в области информационных технологий, со штатом более 17 тыс. высококвалифицированных сотрудников, имеющих высшее образование в области программирования и прикладной математики. Компании — члены РУССОФТ являются абсолютными лидерами по внедрению CMMI/ISO в Европе, развивая долгосрочные отношения с нашими партнерами и заказчиками, среди которых такие компании, как IBM , Boeing , SAP , Procter&Gamble , CSC и др.
РУССОФТ тесно сотрудничает с ведущими университетами, студенты которых неизменно занимают лидирующие позиции в международных олимпиадах по программированию, таких как ACM International Collegiate Programming Contest . Поэтому интерес к ИТМО становится понятным и оправданным. Таким же центром производства человеческого капитала и технологических разработок для фармакологического кластера стала Химико-фармацевтическая академия. И это примеры чрезвычайно важного тренда.
Уже с конца прошлого века в нашей стране сформировалась качественно новая ситуация, когда экономика, бизнес, общество и государство живут в условиях дефицита населения и возрастающей ценности трудовых ресурсов. Если численность трудоспособного населения в 2002 г. составляла 87 млн. человек, то по прогнозам к 2025 г. эта цифра снизится до 70 млн., а в 2050 г. — до 43 млн. человек. Таким образом, объем трудовых ресурсов сократится в течение прогнозируемого периода примерно вдвое. Это означает, что основой устойчивого экономического роста на предстоящий среднесрочный и долгосрочный периоды на всей территории страны может стать только повышение качества человеческого капитала. В отличие от индустриального общества, базировавшегося на инструментах мобилизации природных и технических факторов, постиндустриальное общество опирается прежде всего на нематериальные активы — мотивацию и квалификацию человеческого капитала. Его качество — основа будущей конкурентоспособности отечественного бизнеса. Фундамент нужно закладывать уже сейчас. А эффективно конкурировать на внешних рынках труда за профессиональные кадры Россия пока не готова.
В такой ситуации на первый план выходит создание гибкой и эффективной системы образования и профессиональной подготовки. При этом именно инженерное образование оказывается ключом к экономическому росту. Общемировой тенденцией стало повышение доли интеллектуального труда и на этом фоне — повышение образовательного барьера деловой и профессиональной карьеры.
Ректоры отечественных вузов продолжают надувать щеки, настаивая на том, что у нас лучшая в мире система высшего образования. И это уже даже не смешно. Сейчас в России насчитывается вместе с филиалами 32 тыс. вузов. Это в пять раз больше, чем в СССР. В них учится в 2,5 раза больше студентов, чем в СССР. Уже в 2000 г. количество мест в государственных и негосударственных вузах страны превысило количество выпускников 11-х классов. А за последние пять лет в вузы поступили на 200 тыс. человек больше, чем окончили за это время школы. Это означает, что сейчас в вузы поступают все, кому не лень, даже те, кто почему-то «забыл» поступить в свое время. При этом на 4 % упало количество остепененных преподавателей. Одни и те же преподаватели, имеющие нищенскую зарплату, мечутся из вуза в вуз, умудряясь читать в день по 8–10 часов
«лекций». Студенты делают вид, что учатся, а преподаватели делают вид, что учат. Диплом воспринимается не как сертификат знаний, а как бумажка для карьеры, которую можно при желании купить даже в переходе метро. Где ими, впрочем, в открытую и торгуют. Нам есть, чем гордиться!!!
Более 50 % выпускников вузов не идут на работу по специальности. Получается, что высшая школа в массовом порядке готовит «профессиональных неудачников», профессионально и жизненно некомпетентных людей. Или — обманутых. Перепроизводство невостребованных сочетается с ростом барьеров доступа к качественному образованию. При этом российская высшая школа, как и вся сфера образования, закрыта от общества. После того как государство почти ушло из этой сферы, она замкнулась на зарабатывании денег любыми способами, замкнулась на себе, оценивает себя сама и в этой своей самодостаточности становится все более неадекватной времени, производству, технологиям, образу жизни.
Реформы отечественной высшей и средней специальной школы назрели и перезрели уже давно. И этот нарыв без участия бизнеса, формирующего рынок труда, вскрыть невозможно. Бизнес-сообщество может и должно быть экспертом качества образования, а также активно участвовать в выработке перспектив его развития. Пока же бизнес большей частью напоминает маленького ребенка на приеме у врача: плачет, но толком объяснить ничего не может. Рабочих надо учить с нуля. Из вузов приходят выпускники, которых надо переучивать — лучше бы не учились вовсе… Надо «выходить за забор» и формулировать свою позицию.
Так или иначе, но необходимы самоопределение и активность бизнеса. О чем может идти речь? Экономике и стране как воздух необходимо участие успешного бизнеса в образовательном процессе. Бизнес — аккумулятор основного интеллектуального капитала современного общества. Реальный бизнес и реальное производство всегда опережают систему образования и профессиональной подготовки. В учебных курсах, программах и учебниках обобщается и транслируется чей-то успешный реальный практический опыт — не более, но и не менее, поскольку тем самым этот опыт получает более широкое распространение.
Участие бизнеса в образовании и профессиональной подготовке позволит решить такие задачи, как вывод учебных заведений в рыночную ситуацию, концентрация ресурсов на поддер- жке элитных вузов, решение проблемы зарплаты профессорско-преподавательского состава, а главное — формирование внешнего социального заказа и экспертиза качества подготовки по конечному результату — трудоустройству работников и специалистов.
Мировой опыт в этом плане довольно различен. В Японии предпочитают готовить специалистов на предприятии и в корпоративных учебных заведениях. В Германии бизнес предпочитает иметь дело с уже подготовленным специалистом. Но доучивают везде. На дообучение, а то и переучивание выпускников уходит иногда до полутора лет. Поэтому нет ничего удивительного в том, что по всему миру компании создают специальные центры, где сосредоточены обучение персонала, управление знаниями, проведение исследовательских проектов.
Очевидно, что Россию тоже ждет развитие корпоративных учебных заведений, как среднеспециальных, так и университетов. Возрождение и создание таких образовательных центров идет в последние годы довольно активно. Помимо упомянутых питерских кластеров, примером создания такого центра является корпоративный университет компании «Северсталь», получивший официальную регистрацию еще в 2001 г. Пожалуй, самым известным в России примером корпоративного вуза можно считать РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, отметивший недавно свой 75-летний юбилей. Сегодня в числе попечителей вуза числятся все крупнейшие компании, действующие в нефтегазовом секторе. Именно эти компании зачастую направляют своих работников на обучение в профильный университет и оплачивают его. Кроме того, многие лекции читают непосредственно организаторы производства, представители компаний, на базе которых организуется производственная практика, а для выпускников проводятся ежегодные ярмарки вакансий.
В тотальной приватизации вузов нет никакой необходимости. Образование попечительских советов позволяет интегрировать ресурсы и делает деятельность вуза прозрачной. Речь идет об упорядочении организационного и финансового влияния.
Помимо традиционных учебных заведений, все большей популярностью в последнее время стали пользоваться «виртуальные университеты». Речь идет о корпоративных системах электронного дистанционного обучения, которые активно начали формироваться в конце 1990-х гг. За рубежом к этому времени окончательно отказались от телевизионных и видео-лекций и неудобных для обучения электронных учебников с текстом на экране компьютера. Современная система дополнительного образования представляет собой программную оболочку, которую размещают на сервере внутрикорпоративной сети или на сервере провайдера. В нее загружают сетевые курсы, доступ к которым открыт с любого рабочего места корпоративной сети или через окно браузера. Например, в США свыше 62 % предприятий с численностью свыше 1000 человек уже внедрили такие системы, в России же их используют лишь некоторые крупные компании: «Сибнефть», «Русал», «Татнефть», «Северсталь», «Вымпелком».
Рационально не участвовать в конкуренции зарплат, а выводить соответствующие социальные инвестиции в человеческий капитал. Поэтому НЛМК ежегодно тратит 120 тыс. руб. на доплату детям, поступившим в московские вузы на договорной основе, 17 тыс. руб. доплачивается тем, кто проходит практику на НЛМК. Кроме того, существует программа для молодых специалистов, по которой (подав специальное заявление) студенты в течение года учатся у ведущих специалистов, опытных ветеранов с последующей защитой самостоятельно разработанных проектов. По этой программе молодой специалист получает единовременно 20 тыс. руб. и ежемесячную доплату по 3 тыс. руб.
На Норникеле стремятся всячески сократить сроки дополнительного обучения выпускников вузов: в настоящее время этот срок удалось снизить с 1,5 лет до 8 месяцев. Для этого используются ранняя вербовка и производственная практика студентов. Учитывая, что молодые люди, окончившие высшие или средние специальные учебные заведения, сегодня фактически не имеют возможности устроиться на работу по специальности, Норникелем совместно с органами службы занятости Норильска, Красноярского края, Мурманской области разработаны специальные программы «Рабочая смена» и «Стажеры», которые дают возможность молодым людям получать работу на предприятиях компании. На основе открытого конкурса создаются учебные места со специальными программами обучения и адаптации. За год прием по этой программе составляет около 450 работников, которые по уровню подготовки и желанию работать превосходят тех, кто привлекается в рамках свободного найма. Особое внимание уделяется перспективной молодежи, подготовке будущих «инноваторов», способных дать новые импульсы развитию производства.
Наиболее благоприятные условия для реализации непрерывного образования могут сложиться в новых образовательных структурах — образовательных комплексах, реализующих образовательные программы разных ступеней и уровней (начального, среднего и высшего профессионального образования), позволяющих обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов.
Но это — дело будущего, а сейчас важно не терять наметившуюся нить понимания роли и значения инженера в современном обществе как в традиционно индустриальном, так и тем более HiTec’овском понимании инженерного дела, смыслом и главным нервом которого являются рациональность, конструктивность, инновационность. Инженер был и остается символом человека знающего и умеющего. А как известно из философии познания, человек что-то понимает, только если знает «скрытый схематизм», «сделанность» явления или вещи. Не случайно сейчас везде востребованы «технологии» — политические, социальные, социально-культурные… Да и в современном бизнесе вошли в моду инжиниринг и реинжиниринг, в политике формируется запрос на социальную инженерию. Хочется иметь дело с чем-то рациональным, конструктивным, работающим…
И это значение инженерного дела сохраняется даже в самом что ни на есть постмодернизме. Просто современные рациональность, инженерная мысль настолько глубоки и изощ-ренны, что способны принять вид «симулякра», «новой телесности»… А призывы к «новой архаике» и заклинания логоцентризма в известной степени обусловлены общей впечатлительностью и научно-технической необразованностью большей части гуманитарной общественности.
Как в свое время жившие в доселе понятном им мире племена, столкнувшись с европейской цивилизацией, воспринимали ружье как «огненную палку», так и нынешние «новые дикари» принимают имидж и рекламу за реальность, не зная кем, как и зачем она сделана. А Силиконовая долина и Денвер могут позволить себе веселиться, глядя на декон-структивистское ломание игрушек, устройство которых уже не понять вполне взрослым дядям и тетям. И какая-нибудь очередная страшилка (терминатор, трансформер, тамагочи и т. п.) сделанная на потеху детям, даст гуманитариям пищу для очередного откровения и культурологического обобщения.
Я сознательно перегибаю палку и ерничаю. Имеются разные уровни осмысления действительности и, несомненно, обыденный опыт ближе гуманитарию, рекламисту и «менеджеру». Их сфера, собственно, и есть реальное поле игры постмодернизма, влияния новоархаических мифов и метафор на современную науку, технику и экономику. Единственное, чего мне хотелось, так это обратить внимание на неизбывность в цивилизации рациональности и конструктивных мысли и дела: изгоняемые в дверь, они влетают в форточку в виде импортных гаджетов.
Творческие инженерные мысль и дело в России много не просят… Что необходимо — так это осознание их действительной роли и значения. Остальное приложится.