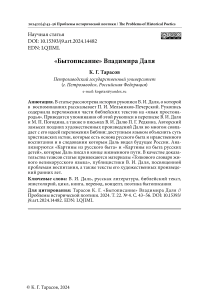«Бытописание» Владимира Даля
Автор: Тарасов К.Г.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена история рукописи В. И. Даля, о которой в воспоминаниях рассказывает П. И. Мельников-Печерский. Рукопись содержала переложения части библейских текстов на «язык простонародья». Приводятся упоминания об этой рукописи в переписке В. И. Даля и М. П. Погодина, а также в письмах В. И. Далю П. Г. Редкина. Авторский замысел поздних художественных произведений Даля во многом совпадает с его идеей переложения Библии: доступным языком объяснить суть христианских истин, которые есть основа русского быта и нравственного воспитания и в следовании которым Даль видел будущее России. Анализируются «Картины из русского быта» и «Картины из быта русских детей», которые Даль писал в конце жизненного пути. В качестве доказательства тезисов статьи привлекаются материалы Толкового словаря живого великорусского языка, публицистики В. И. Даля, посвященной проблемам воспитания, а также тексты его художественных произведений ранних лет.
В. и. даль, русская литература, библейский текст, эпистолярий, цикл, книга, перевод, концепт, поэтика бытописания
Короткий адрес: https://sciup.org/147245774
IDR: 147245774 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.14482
Текст научной статьи «Бытописание» Владимира Даля
В воспоминаниях о В. И. Дале П. И. Мельников-Печерский рассказывает историю создания и мытарств рукописи, которую Даль завершил уже после издания «Толкового словаря живого великорусского языка». Речь идет о «Бытописании» для народного чтения — Моисеевом Пятикнижии, изложенном применительно к понятиям русского простонародья.
Мельников-Печерский писал об этой рукописи как о завершенном цельном произведении, как о труде, «замечательном по своей ясности, простоте и доступности понимания малосведущих людей» [Мельников: 333]. Рукопись долго пролежала в Московском духовном цензурном комитете, после чего в 1869 г. автор воспоминаний лично отвез ее в Петербург. Но и там, после одобрения цензурой, текст так и не был напечатан. По словам П. И. Мельникова-Печерского, перед кончиной В. И. Даль передал эту рукопись Наталье Львовне Соколовой, сестре жены писателя Екатерины Львовны.
В монографиях биографов Даля советского времени ([Бессараб], [Порудоминский]), а также в немногочисленных статьях современных исследователей информации о судьбе «Бытописания» нет. В редких случаях встречаем лишь признание факта существования рукописи (см.: [Юган: 168], [Мельник: 47–48], [Брюзгина: 45]).
Примечательно, что еще в письме М. П. Погодину, датированном 10 июня 1848 г., Даль писал:
«Спешу уведомить Вас, любезный Михайла Петрович, что отправил Вам тюк, в котором найдете <…> мой давнишний опыт перевода Евангелия» (цит. по: [Ильин-Томич: 367]).
А. А. Ильин-Томич предположил, что здесь идет речь о переложении Евангелия для народа, и провел параллели с рукописью, о которой упоминал П. И. Мельников-Печерский.
В этой же переписке Даль просил Погодина высказать его мнение о переводе. В ответ на просьбу в письме от 2 декабря 1848 г. Погодин критически отозвался об опыте Даля, что, вполне возможно, расстроило Владимира Ивановича и заставило его отложить завершение своего труда на более поздний срок:
«Перевод Ваш очень хорош сам по себе, но в отношении к священному и Божественному подлиннику Вы позволили себе много вольностей. Есть много слов вставных и объяснительных. От церковных тоже не удержались совершенно: гортань, сотворение, скрежет, поучал, премудрость, праведник, беззаконный. Но я прочел его еще вскользь» (цит. по: [Ильин-Томич: 377]).
В рассматриваемый период за публикацию в журнале «Москвитянин» «картины из русского быта» «Ворожейка» Даль, как он сам признался, получил «Высочайший выговор» и тому же Погодину в письме от 18 декабря 1848 г. сообщил:
«…разумеется, что я теперь уж более печатать ничего не стану, покуда не изменятся обстоятельства» (цит. по: [Ильин-Томич: 381]).
«Картины из русского быта» он продолжил публиковать только в 1856 г. Видимо, Даль отложил и переложение Библии.
Письма Далю П. Г. Редкина, известного педагога, юриста, возглавлявшего с 1863 г. кафедру энциклопедии права в Санкт-Петербургском университете, а с 1873 по 1876 г. занимавшего пост ректора этого университета, также подтверждают тот факт, что Даль действительно перекладывал Библию на «понятия русского простонародья». Именно Редкин в сентябре 1866 г. читал начало «Бытописания» как член негласного комитета, учрежденного Великой Княгиней Еленой Павловной для создания и распространения в народе «всякого рода назидательных и полезных книг» (цит. по: [Тарасов: 74]).
В письме Редкина от 18 сентября 1866 г. читаем:
«С большим удовольствием прочли мы внимательно начало твоего нового важного и прекрасного труда и решили просить Тебя о его продолжении. Для того чтобы можно было напечатать отдельной брошюрой, чтобы Ты довел его теперь же до Моисея, чем и будет закончен так называемый дозаконный (подчеркнуто автором письма. — К. Т .) период Библейского бытописания» (цит. по: [Тарасов: 75]).
Редкин добавил, что Далю «вовсе не следует сомневаться насчет духовной цензуры», так как «все, одобренное нами, пропускается всякою цензурою» (цит. по: [Тарасов: 75]).
Из этих же писем становится понятно, что одним из последних, кто читал далевскую рукопись, была баронесса Эдита
Федоровна Раден, фрейлина Великой Княгини Елены Павловны, и что к лету 1867 г. она должна была вернуть эту рукопись автору:
«Это было весною, в апреле. Так как Ты не упоминаешь теперь об ней ни слова, то я заключаю, что слова мои подействовали и рукопись действительно возвращена Тебе. Но, спрашиваю, с каким ответом, или же без всякого ответа, и что ты затем предпримешь с нею? Грех было бы Тебе не окончить и этого великого дела» (цит. по: [Тарасов: 76]).
По всей видимости, перевод Библии на язык простонародья — это еще один масштабный замысел Даля, так и оставшийся в рукописи, а те факты, на которые указывают М. П. Погодин, П. Г. Редкин и П. И. Мельников-Печерский, — части этого замысла. Где эта рукопись находится сейчас, сохранилась ли она до нашего времени — неизвестно.
Если ко всему печатному и рукописному наследию Даля относиться как к составному текстовому образованию, как к эстетическому целому или даже «ансамблевой форме» [Киселев: 185], то обратим внимание на то, что именно в конце 60-х гг. XIX в. Даль писал и публиковал после десятилетнего перерыва1 в журнале «Русский вестник» новые «Картины русского быта»2, а также создавал еще один литературный цикл: «Картины из быта русских детей», отдельное издание которых увидело свет уже после смерти автора3. В этих произведениях Даль, по-прежнему скрупулезно описывая бытовые детали жизни героев, поднимается на иной даже для самого себя уровень осмысления творческого, нравственного, культурного и философского содержания ж изни (см.: [Савенков: 70–71]).
Еще Мельников-Печерский в воспоминаниях обратил внимание на то, что «особенно замечательны в нем («Бытописании». — К. Т .) нравственные толкования разных мест Св. Писания, примененные к быту и обычаям нашей сельщины-дере-венщины. Некоторые из них отличаются не только чрезвычайною ясностью, но и такими применениями к жизни, которые ускользают от внимания современных церковных учителей» [Мельников: 333]. Таким образом, имеет смысл предположить, что авторский замысел последних художественных произведений Даля для взрослых и детей во многом совпадает с авторской идеей переложения Библии доступно и понятно объяснить суть христианских истин, которые есть основа русского быта и нравственного воспитания:
«Высшая нравственность состоит в безусловном исполнении заповедей Ветхого (десятисловия) и Нового Заветов, не ради каких-либо мирских целей, а ради веры и любви»4.
В рассказе «Приемыш» Марьяше, которая была «теплой и кроткой души от природы», с малого детства пришлось терпеть унижения со стороны мачехи и покоряться ее прихотям, но наставления дедушки-священника глубоко запали в ее душу, «остались навек незримым утешителем и руководителем» и помогли обрести счастье:
«Ты терпи, Марьяша, Бог увидит; в терпении стяжити души ваши5, сказано в Писании, ты и смирися… А душа-то от этого все растет и до Бога дорастет!» (Приемыш: 24–25).
Еще одним утешением героине рассказа являлось материнское Евангелие, с которым она никогда не расставалась. В произведении присутствуют образы представителей нового и старшего поколений, приводится разговор о знании и нравственном образовании — это характерные черты поздних текстов Даля, названных одним из исследователей «духовной прозой» [Жест кова: 2803].
Героиня рассказа «Кружевница» увидела «свет духовный», когда осознала смысл евангельского изречения, услышанного от мужа, которому она хотела солгать:
«Спаситель говорит, милостыни хочу, а не жертвы6; когда свечу ставишь, говорит, значит жертвуешь; а милостыню подаешь нужному, значит милость творишь» (Кружевница: 6).
Здесь же приводятся воспоминания о том, как умершая матушка кружевницы поучала своих детей:
«Дурить не ладно, за это баба-яга в мешок унесет, в ступе утолчет; на мать огрызаться не годится, язык присохнет; в чужой огород не лазить, там сидит бабища-капустища, у нее голова кочанная, руки морковные, ноги редечные, сама хмелем подпоясана, в руках хворостина долгая, из-за угла стегнет» (Кружевница: 11).
В «картине» «Октябрь» Даль писал о неверно понятой духовности как о потере человеком жизненной стези, как о заблуждении воли и сердца. Девушки села Царево-Стойбище по сложившейся традиции в большинстве своем уходили в монастырь, «привязавшись к одной внешности, обрядливости веры» и желая «уже во плоти отрешиться от насущного и жить одним духом» (Октябрь: 5). Руф Садокович, владелец имения, прежде всего своим нравственным авторитетом, меняет эту традицию, выдает девушек замуж и красноречиво объясняет еще одну библейскую истину, после чего в один день было сыграно восемь свадеб:
«Не добро быть человеку единому: сотворим ему помощника, и созда Бог ребро, еже взя от Адама, в жену, и приведе Еву к Адаму: сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей, и будета два в плоть едину»7.
В картинах «Дедушка Бугров», «Январь» и «Обмиранье» находим философские размышления об искажениях в человечестве, о духовных началах человека, о русской земле, о судьбе страны.
Такие достаточно пространные размышления вообще не свойственны поэтике художественной прозы Даля. Видно, что писатель задумывался над тем, кто будет жить после него; будут ли эти люди нравственно воспитаны и будут ли они и дальше сохранять православные ценности; как будут отвечать на вызовы наступающего нового времени. Будут ли новыми хозяевами, подобно Вадиму Петровичу Горячеву из рассказа «Приемыш», хозяйству выучившемуся по театрам, или будут исполнительными, добросовестными и точными в делах своих, как Петр Егорович Бугров, главный жизненный принцип которого — помочь ближнему:
«…все зачатки двойственного духовного начала человека, умственные и нравственные, спят в создании этом, как зародыш кедра в малом зерне, и могут быть заморены, могут погибнуть или выйти на Божий свет, возрасти и красоваться во всем божественном блеске своем» (Дедушка Бугров: 2).
Размышления о будущем страны, появление в семье внуков, по-видимому, и подтолкнули В. И. Даля бытописать для детей и о детях . В одной из последних «картин из русского быта» «Обмиранье» рассказчик описывает свою случайную встречу с белокурой девочкой, которая сидела на крыльце дома, перебирала только что сорванные цветы и напевала песенку. Далее следуют размышления, словно являющиеся мостиком к последнему далевскому циклу «Картины из быта русских детей»:
«Глядя на такого ребенка, мне всегда думается: сколько мира и непорочности дается человеку в задаток будущности его, как свято и цело блюдется оно, доколе еще сердце и думка не рознят между собою, и какое бурное волненье в нем возникает с того часу, когда он начинает сознавать личность и самостоятельность свою! Какое врожденное сочувствие к этому мирному младенческому быту отзывается в тайнике души каждого, утратившего это состоянье, даже в самом грубом и черством сердце!» (Обмиранье: 28–29).
И во «взрослом», и в «детском» цикле «Картин» Даль занимает позицию религиозного просветителя, которая помогает автору сформировать «энциклопедическое целое», если иметь в виду его статьи о воспитании, о грамотности, о русском языке и, конечно, Словарь и Сборник пословиц. По мнению автора этих трудов, того, кого собираются образовывать, надо сначала просветить, и не важно, о ребенке идет речь или о взрослом человеке (курсив мой. — К. Т.). Неслучайно А. В. Вдовин, анализируя выполнение государственной задачи по созданию книг для народа в середине XIX в., приравнивал совершеннолетних читателей к обучаемым детям [Вдовин: 270].
Даль проводит четкую границу между образованием и просвещением и считает, что ко всему высоконравственному необходимо приобщать ребенка в раннем возрасте. В «Толковом словаре живого великорусского языка» находим:
«Образовывать, образовать — иногда придавать наружный лоск, приличное, светское обращение, что и составляет разницу между просвещать и образовывать. (Науки образовывают ум и знания, но не всегда нрав и сердце)» [Даль, 2003; т. 2: 613].
«Просвещать, просветить — даровать свет умственный, научный и нравственный, поучать истинам и добру; образовывать ум и сердце. Поэтому просвещенный человек — обязательно человек с понятиями об истине, доблести и долге» [Даль, 2003; т. 3: 509].
В «Картинах из быта русских детей» истинам и добру поучает бабушка. Именно она связывает все истории из повседневной жизни изображаемых семей в цельную картину нравственного воспитания. В этом цикле, помимо подробнейшего описания быта, детских игр и праздников, автор приводит рассказы о сочельнике, о богоявленской воде, покаянии и раскаянии (Крещенский сочельник), об обряде Крещения (Крещенский сочельник, Крестины), о таинстве смерти (Личинка и мотылек), о любви славян друг к другу через Евангелие (Зерно на добрую почву). В одной из «картин» бабушка разъясняет детям суть христианских заповедей (Прощеный день).
В цикле встречаем любимое Далем рассуждение о чтении ненужном, бесполезном и чтении необходимом. Бабушка, например, читает Евангелие и постоянно приводит детям поучительные истории, связанные с евангельскими сюжетами. Девочка Нина и ее гувернантка читают «один из самых уродливых французских романов», и «обе наслаждаются по-своему: одна сочувствует нравственному уродству человека, которое обычно называют увлечением страстей; другая пока радуется на внешний блеск, на описание нарядов, на красоту героинь, на их ловкие облыжные речи; из романов этих, как вихрем, наносятся семена сорных трав на дурно возделанную почву: волчец, крапива и полынь сеются, растут и глушат в девочке тот добрый злак, что дал Господь на потребу каждого человека» (Детские сумерки: 14–15).
В описании модели воспитания будущего поколения автор резко противопоставляет образы бабушки и няни образу гувернантки. «Податливая» нянюшка, которая искренне любит детей и доказывает любовь свою «не одними поцелуями, а неизменным терпением и готовностью дни и годы, без устали с ними возиться» (Детские сумерки: 6), и гувернантка — бедная труженица, которая не из тех, что «с любовью или хотя бы только с покорностью, обреклись на великий подвиг воспитания» (Шестинедельное заключение: 2). Как мы видим, именно христианский подход к пониманию личности ребенка позволил В. И. Далю одному из первых в русской литературе показать эту личность с таким доверием и так полно.
Художественное наследие Даля до сих пор не собрано, не опубликовано полностью и, тем более, не изучено. В советское время писателя называли консерватором с народническо-романтическим настроением, обвиняли за «русификаторско-шовинистический оттенок его произведений», сегодня статье о В. И. Дале не нашлось места в авторитетном издании «Православная энциклопедия» [Тарасенко]. В отношении Даля по-прежнему не преодолено то, что В. Н. Захаров назвал самым большим недоразумением в написанной истории литературы, — «непонимание ее духовной сущности» [Захаров: 5].
Замысел Даля по переложению Библии и христианских постулатов на доступный язык воплотился как в рукописи, история которой рассмотрена в данной статье, так и в бытописании для взрослого читателя и читателя-ребенка, а также в далевских размышлениях о воспитании новых поколений. Изучение в течение всей жизни православия убедило Даля в необходимости приблизить основные христианские догматы к своим читателям. Для реализации этой задачи он создает свои литературные циклы: «Картины из русского быта» и «Картины из быта русских детей».
Список литературы «Бытописание» Владимира Даля
- Бессараб М. Владимир Даль. М.: Моск. рабочий, 1968. 264 с.
- Брюзгина Л. П. Нравственно-философское осмысление религии в творческом наследии В. И. Даля // Пятые международные Далевские чтения: тезисы, статьи, материалы: к 200-летию основания г. Луганска. Луганск, 1996. С. 39–45.
- Вдовин А. В. Конструирование крестьянских субъектов в прозе для народного чтения 1839–1861 годов // Детские чтения. 2023. Т. 23. № 1. С. 269–298 [Электронный ресурс]. URL: https://detskie-chtenia.ru/index.php/journal/article/view/566/556 (21.07.2024). DOI: 10.31860/2304-5817-2023-1-23-269-298. EDN: WEIRXM
- Даль В. И. Полное собрание сочинений в прижизненных публикациях. Петрозаводск, 1999–2002 // PHILOLOG.RU [Электронный ресурс]. URL: https://philolog.ru/vdahl/texts/texts.htm (21.07.2024).
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык – Медиа, 2003.
- Жесткова Е. А. Художественный мир русского православия в цикле рассказов В. И. Даля «Картины из быта русских детей» // Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования: сб. науч. ст. междунар. конф., Барнаул, 20–24 октября 2015 года. Барнаул: Алтайский государственный университет, 2015. С. 2803–2806 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_24753348_65476510.pdf (21.07.2024). EDN: UVRPUL
- Захаров В. Н. Русская литература и христианство // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 1994. Вып. 3. С. 5–11 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_24753348_65476510.pdf (21.07.2024). EDN: RUYJPT
- Ильин-Томич А. А. Переписка В. И. Даля и М. П. Погодина. Часть 1 // Лица: биографический альманах. СПб.: Atheneum; М.: Феникс, 1993. Вып. 2. С. 287–388.
- Киселев В. С. Метатекст как тип художественного целого (к постановке проблемы) // Вестник Томского государственного университета. 2004. № 282. С. 184–190 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_17036678_98829629.pdf (21.07.2024). EDN: OIVDWL
- Мельник В. И. Значение православия в жизни и творчестве В. И. Даля // Два века русской классики. 2023. Т. 5. № 1. С. 36–53 [Электронный ресурс]. URL: https://rusklassika.ru/ru/nomera-zhurnala/82-2023-tom-5-1/905-znachenie-pravoslaviya-v-zhizni-i-tvorchestve-v-i-dalya (21.07.2024). DOI: 10.22455/2686-7494-2023-5-1-36-53. EDN: BQSYGT
- Мельников П. И. Воспоминания о Владимире Ивановиче Дале // Русский вестник. М., 1873. Т. 104. № 3. Март. С. 275–340.
- Порудоминский В. И. Даль. 1801–1872 гг. М.: Мол. гвардия, 1971. 384 с. (Жизнь замечательных людей. Серия биографий; вып. 17 (505).)
- Савенков В. Н. Быт православного человека в произведениях В. И. Даля // Межрегиональные Пименовские чтения. 2022. № 19. С. 65–71 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/voiptl (21.07.2024). EDN: VOIPTL
- Тарасенко Т. П. Религиозная концептосфера художественного дискурса В. И. Даля // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 5–1 (71). С. 154–158 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29046001_73938729.pdf (21.07.2024). EDN: YLPYOV
- Тарасов К. Г. Из эпистолярного наследия В. И. Даля // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2009. № 8 (102). Август. С. 72–77 [Электронный ресурс]. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29046001_73938729.pdf (21.07.2024).
- Юган Н. Л. В. И. Даль в общественно-культурной жизни своего времени // В. И. Даль: биография и творческое наследие: биобиблиографический указатель / сост. Н. Л. Юган, К. Г. Тарасов. М.: Флинта: Наука, 2011. С. 11–189.