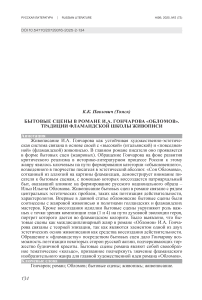Бытовые сцены в романе И. А. Гончарова «Обломов». Традиции фламандской школы живописи
Автор: Павлович К.К.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Живописание И.А. Гончарова как устойчивая художественно эстетическая система связана в основе своей с «высокой» (итальянской) и «повседневной» (фламандской) живописью. В главном романе писателя оно проявляется в форме бытовых сцен (жанровых). Обращение Гончарова на фоне развития критического реализма в историко литературном процессе России к этому жанру явилось ключевым на пути формирования категории «обыкновенного», возведенного в творчестве писателя в эстетический абсолют. «Сон Обломова», сотканный из аллюзий на картины фламандцев, демонстрирует внимание писателя к бытовым сценам, с помощью которых воссоздается патриархальный быт, оказавший влияние на формирование русского национального образа - Ильи Ильича Обломова. Живописание бытовых сцен в романе связано с рядом центральных эстетических проблем, таких как поэтизация действительности, характерология. Впервые в данной статье обломовские бытовые сцены были соотнесены с жанровой живописью и полотнами голландских и фламандских мастеров. Кроме воссоздания идиллии бытовые сцены укрупняют роль важных с точки зрения композиции глав (1 и 4) на пути духовной эволюции героя, портрет которого дается во фламандском колорите. Было выявлено, что бытовые сцены как междисциплинарный жанр в романе «Обломов» И.А. Гончарова связаны с теорией эпизации, так как являются элементом одной из двух эстетических основ живописания как средства воссоздания действительности. Обращение к «фламандству» посредством бытовых сцен дало Гончарову возможность поэтизации некоторых сторон русской жизни, подчеркивающих торжество будничной красоты. Бытовые сцены романа являют собой своеобразное тематическое «кольцо», призванное подчеркнуть значение фламандского изобразительного жанра для главной художественной идеи романа «Обломов».
Гончаров, роман, обломов, бытовые сцены, живопись, живописание
Короткий адрес: https://sciup.org/149148605
IDR: 149148605 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-134
Текст научной статьи Бытовые сцены в романе И. А. Гончарова «Обломов». Традиции фламандской школы живописи
Goncharov; novel; Oblomov; everyday scenes; painting; depiction.
Бытовые сцены, встречающиеся у Гончарова на протяжении всего творчества, в изобразительном виде искусства составляют отдельный жанр, который является одним из основных в нидерландской школе живописи. От раннего творчества до зрелых публицистических работ русский писатель проявлял пристальный интерес к представителям фламандской школы и «малым голландам».
Творчество фламандцев и «малых голландцев», имеет реалистическую основу, это проявилось в большей степени в жанровой живописи. Повседневное, неприукрашенное изображение жизни, порой с юмористическими сюжетными моментами, стало отличительной чертой художников. Их творчество отличает обращение к документальности сюжета, эпической манере изображения действительности, сочетающиеся с детализацией.
«Национальной эпопеей» назвал искусство фламандцев в статье 1849 г. А.Н. Майков, близкий друг Гончарова:. И каким могущественным гением запечатлена эта национальная эпопея! как умел гений заменить недостаток света скупого неба, дорожа каждым его лучом, и в одном луче его отыскать дивную поэзию!..» [Майков 1985, 30–31].
Многие исследователи творчества Гончарова отмечали связь его художественной манеры с фламандцами [Бухаркин 1992, 118–135; Краснощекова 1997, 179, 340; Краснова 2000, 50–51; Юнусов 2002, 6; Гришечкина 2003, 244], практически сводя это только к особой детализации, мотиву еды, идиллии, не принимая во внимание суть эстетики художников-голландцев.
Первым на фламандскую манеру Гончарова указал А.В. Дружинин в статьях «Русские Японии в конце 1853 – начале 1854 г. Из путевых заметок И. Гончарова» (1855) и «Обломов». Роман И. А. Гончарова» (1859) [Дружинин 1983]. Критик напрямую соотносит Гончарова с представителями фламандской живописи: «Как Доу, Ван дер Нээр и Остад, он [Гончаров. – К.П. ] знает, что ему незачем ходить далеко за предметами творчества. <…>подобно им, он ставит перед нашими глазами целую жизнь данной сферы, данной эпохи и данного общества, - для того, чтоб, подобно им же, навсегда остаться в истории искусства и освещать ярким светом моменты действительности, им уловленной» [Дружинин 1983, 235].
Одна из главных эстетических задач фламандцев и русского писателя сводилась к «поэтизации обыкновенного», «прозе жизни». Бытовая живопись на протяжении многовековой истории отличалась ненормативностью и непохожестью на сюжеты высокого (итальянского) стиля изобразительного искусства. Многоликость историй обыкновенной жизни становились главной эстетической доминантой этого жанра. Именно такие работы, отличающиеся фабульностью и особым психологическим действием, оказались близкими словесному искусству.
В 1849 г. Гончаров публикует увертюру к роману «Обломов» в виде отдельной главы «Сон Обломова», которая буквально вся соткана из элементов фламандской живописи. Знаменательно, что на эту изобразительную особенность в описании действительности у Гончарова указал в этом же 1849 г. критик «Москвитянина» А.Ф. Вельтман, подписавшийся как «А.В.»: «Способность сочинителя к фламандской школе, – писал автор заметки, – и вместе к гогартовскому роду ярко высказывается этим отрывком из романа. Описание пошлостей жизни в захолустье отчетливо до порошинки; ярко наброшенные тени на невозмутимую тишину, на это наружное во всем бессмыслие и беззаботность обрисовывают застой жизни как нельзя лучше; но иронический тон красок нейдет к захолустьям: тут нет виноватых. Мало ли на земном шаре мест, где жизнь еще прозябает и не дает еще плодов. Если в этих захолустьях живет еще только сердечная, хотя и неразумная, доброта, необщительная простота» то над ними нельзя трунить, как над детьми в пеленках, которые, несмотря на свое неразумие, милы, что доказывает и “Сон Обломова”» [А.В. 1849]. Одно из первых критических мнений, относительно повествовательной манеры Гончарова, восходящей к живописи, оказывается ценным в том плане, что Вельтману удалось обнаружить одну из важных писательских задач во «Сне», а именно с помощью «фламандства» изобразить «застой жизни», «бессмыслие и безаботность», «пошлость», что не исключает легкую иронию Гончарова, с одной стороны, как с другой ‒ происходит авторская поэтизация этого места (то над ними [обломовцами. – К.П. ] нельзя трунить, как над детьми в пеленках, которые, несмотря на свое неразумие, милы, что доказывает и “Сон Обломова”»).
На сегодняшний момент в отечественном литературоведении дано всесторонне полное исследование «Сна…» [Отрадин 1992, 3–17; Ляпушкина 1996; Истомина 2011; Кукуева 2014], однако на фламандские традиции было указано только некоторыми исследователями [Краснова 2000; Краснова 2003] без обращения к анализу самого художественного текста девятой главы.
Во «Сне Обломова» Гончаровым создан «чудесный уголок» – Обломовка, в котором дано описание детства героя, его имения. Это идиллическое пространство изображено с опорой на эстетические и содержательные элементы фламандской школы живописи. Вхождение «фламандства» в важнейшую в идейном плане главу романа было обусловлено художественной задачей Гончарова – синтезировать в тексте романтические и реалистические традиции при описании провинциальной России. Именно фламандство призвано подчеркнуть важнейшие эстетические особенности прозы писателя – органичное взаимопроникновение «высокого» и «низкого» (повседневного») при создании картин русской жизни. Фламандское начало, связанное с описанием детства главного героя И.И. Обломова и его родового имения.
«Фламандство» Гончарова очевидно имело пушкинскую традицию («фламандской школы пестрый сор») [Пушкин 1937, 201]. Изобразительность стиля поэта была отмечена В.Г. Белинским. По мнению критика, у Пушкина еще в «Графе Нулине» (1825) описания строятся сообразно манере фламандских художников: «Здесь целый ряд картин в фламандском вкусе, и не одна из них не уступит в достоинстве любому из тех произведений фламандской живописи, которые так высоко ценятся знатоками. Что составляет главное достоинство фламандской школы, если не уменье представлять прозу действительности под поэтическим углом зрения? В этом отношении “Граф Нулин” есть целая галерея превосходнейших картин фламандской школы» [Белинский 1948, 78].
По мнению Е.И. Вожик, автора статьи «Вечные фламандцы»: язык описания фламандской живописи в 1830–1850 гг.», школа художников Фландрии «чаще всего характеризуется литераторами обобщенно – нередко через короткое словесное обозначение, своего рода формулу, не всегда обладающую формальным постоянством, однако содержащую в себе устойчивый комплекс смыслов» [Вожик 2024, 65]. Понятие «фламандская школа» в середине XIX в. становится, по мысли Е.И. Вожик, «емкой формулой», содержащей отношение писателей к разным способам воспроизведения действительности, «описательной стратегией» [Вожик 2024, 71] при воссоздании «высокого» и «настоящего».
Фламандство Гончарова в IX главе проявилось в утверждении поэтизации повседневного, имело и другую форму воплощения в литературе XIX века – сатирически сниженную, встречающуюся в плутовском романе Ф.В. Булгарина «Иван Иванович Выжигин», вышедшего за два года до «Евгения Онегина». Именно Булгарин сделал «фламандство» фактом литературной жизни. Этот популярный в то время текст, безусловно, был известен молодому Гончарову. Пушкинский товарищ В.К. Кюхельбекер не случайно сравнивает манеру Булгарина с Теньером («Теньеровские картины ему удаются: вот его род!»), и романтику не нравится последний: «Теньер, всегда однообразный и отвратительный, в Дрездене тот же, что и в С.-Петербурге: у него везде пьяные мужики, растрепанные солдаты, толстые бабы, грубые пляски, карты и вино» [Кюхельбекер 1979, 337]. В этом отношении важно, то с какой целью русские писатели до Гончарова использовали фламандство. В авантюрном романе Ф.В. Булгарина «Иван Иванович Выжигин», который сразу же снискал большую славу, первая глава имеет название «Сиротка, или Картина человечества, во вкусе Фламандской школы». В этом небольшом тексте автор представляет читателю детство «доморощенного волчонка», – «сиротки». Картины детства Обломова и Сиротки, поданные авторами в форме сюжетов картин фламандских живописцев, имеют разные художественные задачи. При общей «фламандской» основе очевидна разница в ее функциональном использовании.
|
Элементы «фламанд-ства» |
Ф.В. Булгарин «Иван Иванович Выжигин», гл. 1 «Сиротка, или Картина человечества, во вкусе Фламандской школы» (1831) |
И.А. Гончаров «Сон Обломова» (1849) |
|
Собака |
«…кроме старой, заслуженной собаки <….>» [Булгарин 1831, 1]. |
«Там нашли однажды собаку, признанную бешеною потому только, что она бросилась от людей прочь...» [Гончаров 1998, 107]. |
|
Забота |
«…никто не приласкал меня из всех живших в доме…» [Булгарин 1831, 1]. |
«Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь» [Гончаров 1998, 106]. |
|
Кухня |
«Зимою я жил в огромной кухне, которая служила местом собрания всей многолюдной дворне, и спал на большом очаге, в теплой золе» [Булгарин 1831]. |
«Но главною заботою была кухня и обед…» [Гончаров 1998, 110]. |
|
Скотный двор |
«Летом я проводил дни под открытым небом и спал под навесом хлебного анбара или на скотном дворе» [Булгарин 1831, 1]. |
«Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньке не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома» [Гончаров 1998, 110]. |
|
Еда |
«…я проворно дотрогивался ладонью до сочного жареного и под рукавом сосал жирную руку, как медведь лапу; иногда я очень искусно обрывал куски ветчины из шпигованья и похищал котлеты из кастрюль» [Булгарин 1831, 1]. |
«После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками» [Гончаров 1998, 107]. |
|
Птица |
«Летом меня заставляли пасти гусей на выгоне или на берегу пруда стеречь утят и цыплят от собак и коршунов» [Булгарин 1831, 3]. |
«Индейки и цыплята, назначаемые к именинам и другим торжественным дням, откармливались орехами…» [Гончаров 1998, 110]. |
В двух художественных текстах присутствует важный элемент любой бытовой сцены – анималистические образы (собака, курицы, утки, гуси и т.д). Герой булгаринского текста показан только с одной стороны – во фламандской атмосфере бедности, грязи, в то время как фламандские черты в гончаровском тексте связаны с поэтизацией детства героя, идеализацией быта и атмосферы, царящей в имении.
Спокойная манера описания Обломовки оказывается равноценна самой форме сна: «Тихо и сонно все в деревне», «Та же глубокая тишина и мир лежат и на полях» [Гончаров 1998, 109]. Гончаровым упоминаются трудящиеся люди – частые герои жанровых сцен: «…как муравей, гомозится на черной ниве палимый зноем пахарь, налегая на соху и обливаясь потом» [Гончаров 1998, 109]. Обособленность места, его замкнутость осмысляется писателем в иронической манере: «Из преступлений одно, именно кража гороху (выделение полужирным шрифтом принадлежит наам, оно связано с фламандством), моркови и репы по огородам, было в большом ходу, да однажды вдруг исчезли два поросенка и курица – происшествие, возмутившее весь околоток и приписанное единогласно проходившему накануне обозу с деревянной посудой на ярмарку» [Гончаров 1998, 109].
Важным фламандским элементом становится кухня, которой во «Сне Обломова» уделяется особое значение («Стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни» [Гончаров 1998, 109].
Кроме «Сна Обломова», сосредоточившего в своем содержании основные проявления «фламандства» в романе, важным в этой связи оказывается образ Пшеницыной. Героиня, олицетворяющая патриархальное начало, отнесенная автором к типу «женщины-матери», оказывается обрамленной фламандским интерьером, будничной атмосферой. Ее дом на Выборгской стороне оказывается для Ильи Ильича второй Обломовкой, где он погружается в быт, в прозу жизни , вновь впадая в «сон». Экстерьер и интерьер дома Агафьи Матвеевны словно списаны Гончаровым с картин Адриана ван Остаде, например, близким по содержанию оказывается полотно «Палисадник дома» (1673), на котором очевидны схожие элементы изображений с гончаровской бытовой сценой.

Фламандские черты при воссоздании действительности оказываются важными не только с характерологической точки зрения, они так же являются задействованными и на уровне композиции. Так, «Сон Обломова», помещенный автором в первую часть романа, воплощающую концепцию «покоя», обнаруживает схожие фламандские черты при воссоздании тихой, идилличной жизни и на Выборгской стороне в четвертой части, актуализирующую главную задачу Гончарова – показать историю развития души героя, его пробуждение и вновь погружение в сон.
Очевидно, что дом Пшеницыной – это вторые духовные пенаты Ильи Ильича, где он ощущает себя в периоде «детства», в гармоничном существовании, связанным только со сферой быта и ежедневно повторяющимися событиями, он вновь начинает жизнь по тем самым циклам, по которым жили «обломовцы».
|
Элементы «фламанд-ства» |
«Сон Обломова» 1 часть романа |
4 часть романа |
|
Активная смена действий |
«А там старуха пронесет из амбара в кухню чашку с мукой да кучу яиц; там повар вдруг выплеснет воду из окошка и обольет Арапку…» [Гончаров 1998, 109]. |
«Между тем в доме суматоха продолжалась . То из одного, то из другого окна выглянет голова; сзади старухи и дверь отворялась немного и затворялась; оттуда выглядывали разные лица.<…> «Откуда-то появился сонный мужик в тулупе и, загораживая рукой глаза от солнца, лениво смотрел на Обломова и на коляску» [Гончаров 1998, 295]. |
|
Домашние животные и птица |
«Придут ли коровы с поля, старик первый позаботится, чтоб их напоили; завидит ли из окна, что дворняжка преследует курицу, тотчас примет строгие меры против беспорядков» [Гончаров 1998, 109]. |
«Двор величиной был с комнату, так что коляска стукнула дышлом в угол и распугала кучу кур, которые с кудахтаньем бросились стремительно…» [Гончаров 1998, 295]. |
|
Кухня, еда |
«Но главною заботою была кухня и обед. Об обеде совещались целым домом; и престарелая тетка приглашалась к совету. Всякий предлагал свое блюдо: кто суп с потрохами, кто лапшу или желудок, кто рубцы, кто красную, кто белую подливку к соусу. Забота о пище была первая и главная жизненная забота в Об-ломовке» [Гончаров 1998, 110]. |
«Хозяйственная часть в доме Пшени-цыной процветала не потому только, что Агафья Матвеевна была образцовая хозяйка <…> [Гончаров 1998, 376]. |
|
Птица |
«Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! 1998, 295]. |
«Под окнами снова раздалось тяжелое кудахтанье наседки и писк нового поколения цыплят…» [Гончаров 1998, 376]. |
|
Пирог |
«Пекли исполинский пирог, который сами господа ели еще на другой день…» [Гончаров 1998, 111]. |
«И когда хозяйке случалось купить или видеть на рынке отличную четверть телятины или удавался особенно хорошо пирог, она приговаривала: «Ах, если б этакая телятина попалась или этакий пирог удался в Иванов или в Ильин день!» [Гончаров 1998, 376]. |
|
Собака |
«…которая целое утро, не сводя глаз, смотрит в окно, ласково виляя хвостом и облизываясь» [Гончаров 1998, 109]. |
«…в разные стороны; да большая черная собака начала рваться на цепи направо и налево с отчаянным лаем, стараясь достать за морды лошадей…» [Гончаров 1998, 102]». |
Бытовые сцены в нидерландской живописи отличались своей «сюжетностью». На картинах этих художников было представлено большое количество героев , находящихся за работой , они «схвачены» кистью живописца в постоянном движении. Гончаров передают эту особенность в описаниях действительности с помощью ряда глагольных перечислений или же повторяя союз «то» («Между тем в доме суматоха продолжалась. То из одного , то из другого окна выглянет голова; сзади старухи дверь отворялась немного и затворялась [Гончаров 1998 , 295]). Домашняя живность , представленная коровами , птицей и собаками , так же представлена на многих картинах художников Фландрии , например, у Пауля Поттера «Коровы на лужайке рядом с фермой» (1653) , Давида Тенирса Младшего «Пейзаж с пастухами и стадом» (середина 1640-х).

Пауль Поттер «Коровы на лужайке рядом с фермой» (1653)
Появление главного героя у дома Пшеницыной рамочно обрамляется фламандским колоритом, когда он первый раз перешагивает порог вдовы: «Обломов сидел в коляске наравне с окнами и затруднялся выйти. В окнах, уставленных резедой, бархатцами и ноготками , засуетились головы. Обломов кое-как вылез из коляски; собака пуще заливалась лаем. Он вошел на крыльцо и столкнулся с сморщенной старухой в сарафане с заткнутым за пояс подолом . – Вам кого? – спросила она. – Хозяйку дома, госпожу Пше-ницыну» [Гончаров 1998, 295]. Кроме того, фламандская флегма, жизнь в ее однонаправленном течении подчеркивается Гончаровым по прошествии времени, проведенного Обломовым в доме Агафьи Матвеевны: «Все тихо в доме Пшеницыной. Войдешь на дворик и будешь охвачен живой идиллией: куры и петухи засуетятся и побегут прятаться в углы; собака начнет скакать на цепи, заливаясь лаем; Акулина перестанет доить корову, а дворник остановится рубить дрова, и оба с любопытством посмотрят на посетителя. – Кого вам?» [Гончаров 1998, 469]. Данное описание объектно повторяет сцену приезда Обломова на Выборгскую сторону.
Таким образом, фламандское начало «Обломова», связанное с бытовыми сценами, появляется еще в первом фрагменте 1849 г. «Сон Обломова» – своеобразное идиллическое воплощение живописных картин мастеров-колористов Фландрии. На особую идейную задачу, связанную с привлечением изобразительного начала указывает соотнесение поэтики романа Булгарина « Иван Иванович Выжигин » с содержанием «Сна». При их сопоставлении становится очевидно, что «фламандство» Гончарова не копирование прозаической реальности с нарочитым подчеркиванием ее серых сторон, как у автора нравственно-сатирического романа, а напротив, проявление и доказательство красоты обыкновенности. Фламандские части первой и четвертой главы в композиционном плане являют собой одну из важнейших тем романа – движение от сна ко сну Обломова. Необычайно показательными в нравственной эволюции главного героя можно считать сцены его приезда на Выборгскую сторону и брак с Пшеницыной, которые словно вставлены Гончаровым во фламандские «рамы».
Воссоздание обломовской идиллии в этой части репрезентует первый в творчестве Ивана Александровича пример эпического охвата описаний. В статье «“Обломов”. Роман И.А. Гончарова» (1859) Дружинин, отмечая реалистическую манеру Гончарова, не сводит ее к «бесплодной и сухой натуральности» [Дружинин 1983, 231]. Более того, критик видит в ней «глубокую поэзию» [Дружинин 1983, 232], выделяет главные признаки родства Гончарова с представителями фламандской живописи: «поэтичен в малейших подробностях создания», «…крепко держится за окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета, который не мог бы быть возведен в поэтическое представление», детализированное описание действительности [Дружинин 1983, 232].
Иллюстрации быта в имении героя оказываются разительно иными, отличными от традиций «натуральной школы», так как автор предстает носителем сентиментально-идиллического сознания. В воссоздании фламандской картины «Сна» Гончаров отказывается от романтических традиций, это можно заметить при выборе объектов изображения, когда автор уточняет, что в Обло-мовке не водятся соловьи, «может быть, оттого, что не водилось там тенистых приютов и роз; но зато какое обилие перепелов!» [Гончаров 1998, 102]. Автор не разграничивает положительное и отрицательное, у него все предстает це- лостным, неизменчивым, круговым, происходит «…уравновешивание одушевленного и неодушевленного» [Краснова 2003, 122].
Важно, что особенности жанровых сцен «Обломова» напоминают критику А.В. Дружинину «миерисовские подробности»: «сродство г. Гончарова с фламандскими мастерами бьет в глаза» при описании мирной, провинциальной жизни» [Дружинин 1983, 235]. В творчестве Гончарова, по мысли критика, утверждается неразрывная связь деталей с общим планом картины. Деталь как художественное средство в творчестве писателя не представляется единичным и оторванным от действительности явлением, именно поэтому Гончарова детали образуют целое, в рамках которого рисуется многообразие действительности «им уловленной» [Дружинин 1983, 235].