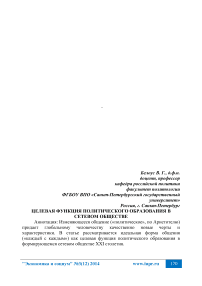Целевая функция политического образования в сетевом обществе
Автор: Белоус В.Г.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 3-1 (12), 2014 года.
Бесплатный доступ
Изменяющееся общение («политическое», по Аристотелю) придает глобальному человечеству качественно новые черты и характеристики. В статье рассматривается идеальная форма общения («каждый с каждым») как целевая функция политического образования в формирующемся сетевом обществе XXI столетия.
Политическое, изменение, коммуникации, глобализация, сетевое общество, образование, кризис культуры, постмодернизм, идеал
Короткий адрес: https://sciup.org/140108327
IDR: 140108327
Текст научной статьи Целевая функция политического образования в сетевом обществе
Общество начала XXI столетия находится в состоянии перемен, которые становятся очевидными в сравнении с большей частью предыдущего века. Определение современной культуры как постмодернистской означает, что социум переходит в какую-то новую фазу развития, имя которой еще не сформулировано окончательно. Что собственно скрывается за этим «пост», предстоит выразить будущему. Между тем современность не может себе позволить пустить на самотек процесс формирования будущего. В данном случае мы рассматриваем «политическое» не в узком смысле (как власть и ее производные), но как изменение. Парадигма «политического» представляет собой сумму осознанных и целенаправленных изменений, формирующих будущее. Эти изменения возникают не сами по себе, а в результате взаимодействия людей. Основаниями изменений служат, с одной стороны, историческая память, а с другой, – высшая форма познания, именуемая воображением. Политическое (понимаемое в этом, широком, смысле) образование является необходимой социокультурной институцией, благодаря которой происходит постоянное воспроизводство исторической памяти и социологического воображения – двух составляющих общественного самосознания.
Политическая образованность и информированность – важнейшие факторы поддержания стабильности общества. Не случайно, политическое образование всегда являлось ключевым объектом внимания государства (как общественного института). Разумеется, в разных странах собственная специфика образовательных услуг, в том числе и политического профиля. Главным образом этот процесс охватывает систему среднего и высшего образования, благодаря которой молодое поколение получает общие сведения о мировом устройстве, политических системах, режимах, идейных ориентациях и др. Было бы ошибкой предполагать, что массовый характер политического образования был присущ исключительно тоталитарным государствам XX столетия. В известном смысле наличие / отсутствие непрерывного политического образования может служить критерием демократического пути общественного развития. Другое дело, какие именно формы приобретает образовательный процесс в начале нового тысячелетия, и какую именно целевую функцию может выполнять сегодня политическое образование.
Характерной особенностью современного мира является т. н. «глобализация». Подразумеваются объективные и поэтому во многом неизбежные процессы интеграции и унификации. Одной из важнейших характеристик современности становится определение мирового сообщества как «сети». Под этим понятием скрываются разнообразные технологические новшества (Интернет, спутниковые глобальные сети, мобильные беспроводные сети и др.), которые в том числе оказывают серьезное влияние и на систему современного образования [1]. Для нас важно определить, какую целевую функцию может выполнять политическое образование в условиях, когда коммуникация приобретает глобально-сетевой характер. В качестве гипотезы можно представить следующую формулировку: политическому в грядущей мировой истории предстоит долгий процесс превращения в центр обновленного общественного бытия, который призван осуществить моделирование и интеграцию человечества, гармонически объединяющего универсальность всечеловеческого и неповторимость индивидуального начал.
Современный индивидуум, как и прежде, ставит перед собой задачу формирования собственного сознания. «…Характер восприятия образованным человеком самого себя, его представление о том, каким ему надлежит себя сделать, его культурное сознание ныне имеют для развития культуры столь же фундаментальное значение, что и раньше. Этот характер восприятия создает усредненный тип культуры народа <…>. Но и теперь, как ранее, культурное сознание образованного человека само по себе действительно представляет массовый по характеру основополагающий элемент развития культуры в целом, ту почву, где прорастают и откуда черпают силы новые идеи и их овеществленные формы…» [2, 101]. Эти слова, написанные почти сто лет тому назад, совершенно не утратили своей актуальности. Вместе с тем современное человечество, ориентируясь на будущее, не может гарантировать возвышение сознания и культуры; более того, существуют очевидные угрозы существенного понижения сознания и деградации культуры.
Человечество начала XXI столетия, уделяя значительное внимание финансово-экономической составляющей современного кризиса, не отдает себе отчет в том, что основание проблем лежит в сфере человеческого сознания. Весьма показательно, что подавляющее большинство современных интеллектуалов интерпретирует текущий мировой кризис как явление сугубо институциональное. Надзирая за кривыми падения и роста национальных валют и биржевых котировок акций, они совершенно игнорируют тот факт, что и экономика, и политика и быт являются результатами глубинных культурных изменений. Современный кризис культуры – это, прежде всего, кризис массовой культуры, культуры постмодерна. Основание современного состояния экономики и политики лежит в господствующем способе мышления. Постмодернистская рефлексия, представляющая собой механическое повторение, а не творчество, есть одно из самых наглядных кризисных проявлений современной духовности. В методологии общественного познания, смешиваясь друг с другом, солируют псевдо-ассоциативный, квазиморфологический и абстрактно-идеологический типы анализа. Повсеместно и безраздельно господствует дилетантизм. «Сетевое» общество являет собой пример готовой к саморазрушению новой «вавилонской башни», когда за очевидным отсутствием коммуникации каждый, солируя, ведет свою партию и говорит исключительно о своем, индивидуально наболевшем.
Поставим вопрос: существует ли внутренний потенциал самосовершенствования современного общества? Очевидно, следует взглянуть на современность не как завершенную стадию развития, но как на потенциально новую форму человеческой экзистенции. Естественно «новизна» эта не претендует на абсолютный характер. Человечество и прежде прилагало усилия для возникновения нового качества, однако прежде для этого не существовало технических возможностей.
С содержательной точки зрения мы рассматриваем «политическое», вслед за Аристотелем, как общение [3]. C объективно-социологической точки зрения институциализация такого общения представляет собой длительный процесс формирования самодостаточной сферы, в основании которой лежат познавательные и коммуникативные интенции, исходящие от разрозненных субъектов, вступающих во взаимодействие. Если на первых порах образовательная общность складывалась на границе между внутренним миром отдельных выдающихся персон и внешней средой, то в конечном итоге образование полностью становится частью внешнего – по отношению к исходным потребностям и интуициям – социального пространства. По мере своей объективации деятельность приобретает все более независимый от отдельных персон характер. Новообразуемые образовательные институты характеризуются относительной стабильностью и представляют собой результат всецело опосредованных связей и взаимоотношений. Они неизбежно начинают диктовать (предписывать) включенным в общий процесс субъектам основные нормы их жизнедеятельности, навязывать обязательный инструментарий поведения и задавать пределы мировидения – с бόльшим или меньшим выбором познавательных и дискурсивных возможностей.
Что в этой среде может изменить новая, «сетевая» коммуникация? Это, безусловно, новый импульс эмоциональной составляющей политикообразовательной практики. «В образовании заложено <…> общее чувство меры и дистанции по отношению к нему самому, и через него – подъем над собой к всеобщему. Рассматривать как бы на расстоянии себя самого и свои личные цели означает рассматривать их так, как это делают другие. Эта всеобщность – наверняка не общность понятий или разума. Исходя из общего, определяется особенное и ничто насильственно не доказывается. Общие точки зрения, для которых открыт образованный человек, не становятся для него жестким масштабом, который всегда действен; скорее они свойственны ему только как возможные точки зрения других людей. В такой степени образованное сознание на практике действительно обладает скорее характером чувства <…> Образованное сознание превосходит любое из естественных чувств тем, что эти последние ограничены каждое определенной сферой, оно же обладает способностью действовать во всех направлениях; оно – общее чувство» [4, 59].
Традиционная форма социализации политического образования внутри разнообразных сообществ основывается на переходящем от поколения к поколению воспроизводстве эзотеризма знания, с одной стороны, и обыденного сознания – с другой. Она строится на взаимодействии посвященных верхов и непосвященных масс, абсолютном праве на руководство одних и столь же всемерном подчинении других. Строгая внутригрупповая дисциплина, сакрализация политических знаний, канонизированные формы общения, наконец, обусловленные жесткими нормативами совместные действия имеют общим «идеальным установлением» принцип своеобразной селекции: особо одаренные индивидуумы, выделяющиеся из массы и превращающиеся в неофитов, должны постепенно восполнять элиту, вытесняя старших, чтобы в конечном итоге на следующем витке исторического времени самим составить касту посвященных.
«Сетевое» общество дает возможность раскрыться новому типу общения и взаимодействия – каждого с каждым , что, на наш взгляд, и следует рассматривать как высшую целевую функцию политического образования. Еще философская наука XX века назвала универсальной «верой в коммуникацию» направленность человеческого разума на интеллектуальное общение. Такая вера возникает в результате неизбывного желания открыть в другом человеке ту «единственную действительность», с какой человек только и «может объединиться в понимании и доверии», которая «теряется в изоляции, в упрямстве и в своеволии, в замкнутом одиночестве» [5, 442]. И сегодня идеалом общественного развития выступает объединенное Человечество, в рамках которого могли быть окончательно преодолены самоочевидные противоречия между единичным и множественным, частным и всеобщим, иррациональным и рациональным [6, 309].