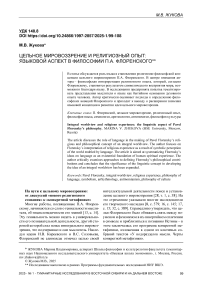Цельное мировоззрение и религиозный опыт: языковой аспект в философии П.А. Флоренского
Автор: Жукова М.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 1 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждается роль языка в становлении религиозно-философской концепции цельного мировоззрения П.А. Флоренского. В центре внимания автора - философская интерпретация религиозного опыта, который, согласно Флоренскому, становится результатом символического восприятия мира, возможного благодаря языку. В исследовании предпринята попытка тематизировать представления мыслителя о языке как бытийном основании духовного опыта человека. Автор критически оценивает подходы к определению философских новаций Флоренского и приходит к выводу о расширении значения языковой концепции в развитии идеи цельного мировоззрения.
П. флоренский, цельное мировоззрение, религиозный опыт, философия языка, символизм, аритмология, антиномизм, философия культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/170209581
IDR: 170209581 | УДК: 140.8 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-1/99-108
Текст научной статьи Цельное мировоззрение и религиозный опыт: языковой аспект в философии П.А. Флоренского
На пути к цельному мировоззрению: от дискуссий «нового религиозного сознания» к «конкретной метафизике»
Многие работы, посвященные П.А. Флоренскому, начинаются со слов о гениальности мыслителя, об энциклопедичности его знаний [13, с. 14]. Эту гениальность можно видеть в универсальности его познавательной деятельности, другой стороной которой стал поиск интегрального мировоззрения, что подчеркивал и сам мыслитель. Наследуя идеям И.В. Киреевского и В.С. Соловьева, Флоренский не единожды отмечал целью своей интеллектуальной деятельности поиск и установление цельного мировоззрения [28, т. 1, с. 38]. На это стремление указывали многие исследователи его творческого наследия [8, с. 579; 16, с. 145; 17, с. 15; 32, с. 389]. Справедливо утверждать, что целью Флоренского было обнажить связь между ноуменом и феноменом в их синергийном сплетении в символе и приблизиться к познанию Истины – в этом заключалась его программа конкретной метафизики, изложенная в одном из ключевых собраний текстов «У водоразделов мысли. Черты конкретной метафизики».
Флоренский довольно остро ощущал разрыв между устройством Церкви, ее литургическими практиками и жизнью священников и мирян [24, с. 171–174]. Он как будто бы предчувствовал приближение катастрофы, выраженной в нравственном упадке и распространении маловерия, и искал пути ее предотвращения [28, т. 1, с. 532]. Флоренский ждал обновления церковной жизни, что выразилось в его сочувствии идеям организации «Христианское братство борьбы» [16, с. 145], созданной В.П. Свенцицким и В.Ф. Эрном. Эти мотивы ожидания религиозного обновления можно обнаружить в философии культа, которая демонстрирует стремление Флоренского к восстановлению связи между Церковью и человеком. Одна из главных ее задач – обоснование необходимости участия человека в религиозной практике в лоне Церкви.
«Новое религиозное сознание» как «практическая философия» стяжания Духа Святого, стремящееся к качественному обновлению – как духовному, так и общемировому, – оказалось течением, привлекательным для молодого Флоренского, но не определившим его жизненный путь [18, с. 102]. О наличии черт «нового религиозного сознания» в мировоззрении Флоренского писали Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, Г.В. Флоровский, П.В. Палиев-ский, Н.К. Бонецкая, Н.К. Гаврюшин. В студенческие годы Флоренский испытывал интерес к идеям Мережковского и его последователей [16, с. 155], размещал свои статьи в издаваемом ими журнале «Новый путь» («О суеверии и чуде» (1903), «Спиритизм как антихристианство» (1904)), однако в зрелом возрасте его оценка общества Д.С. Мережковского стала более критической [23, с. 59, 78–79, 128–129, 147; 29, с. 124]. По мнению Флоренского, цельное мировоззрение достигалось путем воцер-ковленной православной жизни. Православие, в свою очередь, воспринималось только как религиозный опыт, получаемый в стенах Церкви [29, с. 36–37], к историческим результатам миссии которой последователи идеи «нового религиозного сознания» имели серьезные претензии. Не совпал во взглядах на особенности пути человека к Богу Флоренский и с Бердяевым, водоразделом мысли здесь стало отношение между Творцом и тварью. Флоренский, принявший церковный сан, стремясь к обновления духовной жизни, остался в рамках православного учения [28, т. 1, с. 146–147]. Он указал на обязательное следование догматам и осудил любой имманентизм. Важно отметить, что здесь Флоренский расходится с Бердяевым как участником дискуссий о новом религиозном сознании, который видел необходимость в снятии четкой границы между человеком и трансцендентным [3, с. 277], полагая, что церковь со своей устаревшей программой не способна привести человека к спасению [2, с. 23–25].
В этом контексте необходимо говорить о другом качестве новизны религиозного сознания, продемонстрированном самим Флоренским, которому доступны были научная, философская и богословская мысль, с одной стороны, в их аналитической и исторической целостности, с другой – в возможности их творческого синтезирования в горизонте исповедуемого им идеала веры [16, с. 137–138; 17, с. 24]. Именно этот пункт – вера как основание целостного мировоззрения – с философской точки зрения является проблематичным. В первую очередь, необходимо прояснить смысл цельного мировоззрения. Как возможно цельное мировоззрение при признаваемом Флоренским аритмологическом устройстве мира, предполагающем разделение и прерывность, противоположные абсолютности цельной картины мира [27, c. 246]. Принимая во внимание тот факт, что цельное мировоззрение обретается для Флоренского только путем выявления связей между ноуменом и феноменом на уровне взаимодействия с символом как синергией идеального и реального, мы видим свою задачу в тематизации феномена языка, его функций и характеристик, способствующих установлению подобной связи. Значение языка в философской концепции становится едва ли не определяющим в рамках разработанного Флоренским символистского подхода, что усиливает наш аргумент. Таким образом, намеченная нами программа по изучению «нового» цельного мировоззрения предполагает обращение к лингвофилосо-фии Флоренского, данная установка позволяет также сделать и следующий шаг к определению самой лингвистической концепции Флоренского, к прояснению ее статуса как религиозной философии языка, теолингвистики, «теологии» языка или лингвогносеологии.
Гносеологические и антропологические аспекты цельного мировоззрения
Установка П.А. Флоренского охватить мир не только умственным, но и духовно-практическим путем является, на наш взгляд, прямым свидетельством его стремления к цельному мировоззрению. В беседе «Эмпирея и Эмпирия» (1904) Флоренский называет цельным христианское кафолическое мировоззрение [28, т. 1, с. 147]. При подобном подходе мир воспринимается на двух уровнях: феноменальном и ноуменальном в точке их соприкосновения, носителе смысла – символе [28, т. 1, с. 175]. Таким образом, познание может быть охарактеризовано как символическое. Преимуществом христианского кафолического мировоззрения становится возможность рассмотреть символ, подводящий к познанию Истины, а, следовательно, к спасению. Нерелигиозное мировоззрение позволяет говорить только об эмпирии. Эти мысли получили свое развитие в цикле статей, тематически объединенных в тексте «У водоразделов мысли. Черты конкретной метафизики», имеющем программное значение для оформления религиозно-философской концепции мыслителя. Подход, примененный Флоренским, выявляет ряд парадоксальных положений, которые в рамках его философии примиряются либо, наоборот, обостряются, демонстрируя специфику программы в двух аспектах: гносеологическом и онтологическом.
Априорным положением гносеологии Флоренского может быть названо наличие связи между ноуменом и феноменом. В результате грехопадения мир претерпел онтологические изменения, в результате чего связь, ранее данная человеку в ее полноте, оказывается скрытой [28, т. 1, с. 156–157]. Процесс познания необходим для того, чтобы в феномене рассмотреть ноумен. Время здесь преобладает над человеком [28, т. 2, с. 58]. Имеется в виду, что знание человеку уже дано либо в прошлом, когда остается вспомнить или – в духе Платона – припомнить его, либо в будущем. В результате процесс познания определяется как протяженная во времени рефлексия, динамическое расширение знания, которое стремится достичь как максимы идеи, так и максимы реальности. Это столкновение приводит к эвристически положительному результату познания. Такая рефлексия охватывает все познание и заставляет человека отвечать на такой процесс всем своим существом.
Монизм установки простирается на оценку знания с точки зрения субъектно–объектной, познающего – познаваемого. Так как знание рефлексивно, оно находится в постоянном отношении между тем, что ему предшествует – для которого это конкретное знание становится объектом, и тем, что за ним следует – для которого оно является субъектом [28, т. 2, с. 21]. В развитии этой идеи Флоренский во многом опирается на суждения Шеллинга [33, с. 187, 196]. В философии Флоренского реальность и идея соотносятся друг с другом точно таким же образом, как объект и субъект. Таким образом, возникает антиномия познания – акты знания одновременно могут быть определены как идеально-реальные и реально-идеальные. Методологической спецификой построений Флоренского было его стремление к сохранению тезиса и антитезиса, поэтому данная антиномия не разрешается, а, наоборот, подкрепляется идеей о нераздельном, но и несли-янном их положении [28, т. 2, с. 50]. Данный подход позволяет снять напряжение между смыслом, заложенным в символ, и его значением как не имеющими между собой специфической концептуальной разницы. Если мы говорим о том, что основной гносеологической целью становится рассмотрение в феномене его ноумена посредством символического познания, то различия между методологиями разных родов знания также снимаются, т.к. особенность предметов и специфические методологии их исследования утрачивают свое значение и заменяются символическим методом [31, с. 526].
Можно согласиться с рядом исследователей творчества Флоренского, что онтологическая установка, выраженная в символизме, в интерпретации философа оказывается под угрозой определения ее как оккультной [4, с. 73; 6, с. 487; 11, с. 424; 15, с. 437]. Пространственно-временное измерение необходимо для существования в нем феноменов и ноуменов, т.к. оно позволяет говорить о существовании уровней бытия. Доказательством их связи является время: в процессуально-сти реализуется познание, выраженное в раскрытии символа. Неслиянность и одновременно нераздельность как знания, так и уровней бытия говорит о дискретном онтологическом устройстве. Подтверждение этой интуиции Флоренский находит в аритмологии, усвоившей идеи Н.В. Бугаева и теории множеств Г. Кантора [28, т. 1, с. 78]. Но каждая бытийная реальность открывается, по мнению Флоренского, только в опыте религиозной веры. В силу этой установки его формула синтеза представляет собой идею прерывного мирового устройства, необходимого для существования таких явлений, как любовь, красота, творчество, вдохновение, свобода [19, с. 622] – культурных универсалий, способствующих установлению связи между человеком и трансценденцией [20, с. 52]. Данная связь наделяет человека творческой способностью влиять на мир, а не только пребывать в нем [28, т. 1, с. 39]. Эта интуиция предельно важна в рассуждениях Флоренского о взаимодействии языка и религиозного сознания в духовной встрече человека с Абсолютом. Индивидуализация, атомизация универсалий в аритмологически устроенном мире позволяет сохранять их своеобразие и уникальность и, главное, понять и прожить эти явления в глубине своего опыта – «нарочитые дары Духа Святого» [29, с. 123].
Именно в данном моменте мышление Флоренского становится аксиологически окрашенным – цельное мировоззрение есть мировоззрение православное [28, т. 1, с. 147], только в нем может быть раскрыта полнота Истины. Стать православным, согласно мысли Флоренского, возможно только в стенах Церкви [29, с. 36–37]. То есть православная жизнь возможна только при отправлении культа. Культ, в свою очередь, становится элементом, позволяющим человеку рассмотреть в феномене ноумен, т.к. именно в религиозной практике человек соприкасается с Божественными энергиями, дарующими ему способность к более глубокому познанию. Религиозный опыт преображает жизнь человека до самых ее оснований, влияя на формирование представлений, иными словами – мировоззрения.
Сложенные исторической Церковью догматы становятся, таким образом, ориентиром, направляющим человека и включающим его в традицию, приобщающим к цельному знанию.
В интеллектуальном плане, согласно представлениям Флоренского, цельное мировоззрение предполагает соединение науки, философии и религии в целостность. Ключом к такому мировоззрению становится математика, т.к. она позволяет, не отказываясь от разных сторон знания, сохранить явления [25, с. 175]. Выстроенное на математической основе мировоззрение становится фундаментом для развития религиозной картины мира, где религия есть идейный источник, тогда как математика – формообразующий скелет [29, с. 122–123]. Математическая схема при этом предполагает дискретное устройство мира – прерывное, не аналитическое, т.к. непрерывное устройство является частным случаем, что было подтверждено в теории множеств. При этом в соответствии аритмологическому устройству мира предполагается гармония прерывного и непрерывного [32, с. 388].
Философия и наука взаимосвязаны диалектически, первая объясняет, вторая описывает [28, т. 3, с. 134]. Таким образом, общей задачей для обоих образов знания является раскрытие символа при опоре на религиозный опыт [28, т. 3, с. 234, 236]. Синтезирующим началом для Флоренского оказывается религия: она становится ориентиром, способствующим раскрытию особенностей мироздания и, как следствие, формированию цельного мировоззрения. Флоренский делает следующий шаг, выявляя общность философии и науки через выражение знания и смысла в словесной природе [28, т. 3, с. 142]. Логическая последовательность его рассуждений выглядит следующим образом: философия и наука, являясь модусами языка [28, т. 3, с. 143], представляют собой антиномию и говорят об антиномичности самого языка, язык есть антиномия, которая не должна примиряться, но, напротив, должна разрастаться, что позволит языку жить и развиваться [28, т. 3, с. 185–186].
Соединение в одной картине мира представлений о необходимости взращивания цельного мировоззрения, включающего в себя аритмологическое устройство мира и антиномичное его восприятие, может показаться парадоксальным. Однако, как нам видится, взаимодополняемость аритмологии и антиномий говорит о существовании целостной онтогносеологии. Данная целостность подкрепляется полученным в результате встречи с трансцендентным религиозным опытом, и такой принцип взаимодействия рассматривается как целесообразный. Новое религиозное сознание, которое описывает Флоренский, телеологично и выступает уже как цельное мировоззрение, которое стремится приблизиться к
Истине в ее абсолютности. Смысл религиозного образа жизни восходит к идее спасения, возможного в прерывном мире и реализуемого путем победы над прегрешениями. Это возможно благодаря стремлению человека к Богу и переживанию религиозного опыта. Антиномизм в данном ключе позволяет сохранить на пути к Истине – пониманию единосущия Троицы [28, т. 2, с. 137] – результаты поисков. Важно для нас отметить и тот факт, что в философской интерпретации Флоренского антиномизм становится атрибутом языка, с помощью которого мышление человека возможно в целом. Сам же язык признается характеристикой культуры, к творчеству которой должен приложить духовные усилия человек [28, т. 4, с. 476]. Можно сделать вывод, что цельное мировоззрение – это духовный и культурный идеал, формулируемый Флоренским, к которому должен стремиться человек. Он утверждается философом на основе православия как совокупности опытно данной системы знаний о реальном и идеальном мире, передававшейся в течение многих веков и сохраненной в священных текстах и агиографии. Это мировоззрение – всеобщее, оно не противопоставляется аритмологии и антиномиям как содержащим в себе идеи прерывности и контрадик-торности соответственно, но, наоборот, подкрепляется ими, соединяя и гармонизируя их.
Ряд исследователей склонны находить в философии Флоренского черты оккультного, магического [4, с. 73; 6, с. 487; 11, с. 424; 15, с. 437]. Однако максимальное напряжение всего человеческого существа в процессе познания, стремление к раскрытию ноуменального в феноменальном, иными словами, поиску Истины, который показывает философ, соответствуют в большей степени образу ищущего «мира Горнего» человека, обладающего цельным знанием или стремящегося обрести тем самым цельное мировоззрение, а не оккультного практика. Здесь Флоренский остается на позиции христианской антропологии и христианского гнозиса, что будет в целом характерно для его религиозно-философской мысли: несмотря на наличие теологуменов, его мысль находится в «ограде православия», не противореча догмату и традиции.
Символизм и цельное мировоззрение
Философские идеи Флоренского о языке складывались на протяжении всего периода творчества. В наиболее развитом виде рассуждения о природе языка содержатся в таких работах, как «Общечеловеческие корни идеализма» (1908), «У водоразделов мысли. Черты конкретной метафизики» (1918– 1922), «Имена» (1926). Интерес к языку представлен и в письмах Флоренского. В одном из последних писем, от 13 мая 1937 г., Флоренский подводит итог своей интеллектуальной жизни, где отмечает
«Историко-филолого-лингвистическое изучение терминологии» [28, т. 4, с. 702] среди прочих открытий. Одна из ключевых его интуиций – понимание языка как антиномического по своей природе, сочетающего в себе незыблемость и динамичность. Флоренский наделяет язык тайнодействием, ма-гичностью, энергией [28, т. 3, с. 230–231]. Таким образом, язык обладает способностью влиять на мир и на человека. Самыми энергийно насыщенными словами являются имена – совокупности смысла, восходящие к ноуменальному [28, т. 3, с. 265]. При обращении к имени – символу – за феноменом начинает раскрываться ноумен, что свидетельствует о том, что существование имени, или символа, доказывает присутствие идеального в реальном мире [26, с. 146]. Философское обоснование Истины возможно только тогда, когда оно представляет собой метафизику имени [35, р. 181], т.к. имя семантически представляет собой совокупность смысловых элементов именуемого.
В этой логике развития идеи о языке религиозная онтологизация имени, выраженная в философии имяславия, становится определяющей для решения поставленной мыслителем задачи поиска цельного мировоззрения. Согласно Флоренскому, произнесение Имени Бога воспринимается как возможность верующего человека соприкоснуться с «миром Горним», а молитвенный опыт выражается в приближении человека к богопознанию. Этот опыт качественно преобразует человека [27, с. 392], что говорит о способности языковой практики онтологически повлиять на человека. Однако такие характеристики, как магичность и мистичность языка [28, т. 3, с. 212] не оставляют возможности человеку при обращении к символам религии остаться с внешней стороны православной традиции. Религиозная плоскость, в представлении Флоренского, в данном случае становится всеобъемлющей. Носитель культурных универсалий общества – язык, данный человеку с рождения, – располагает к развитию внутри традиции, т.к. он сам сохраняет смыслы в символах, приближающих человека к вере и христианству в целом. Флоренский анализирует культурную традицию, в основе которой – Св. Писание и Св. Предание, указывая на историю языка во многих странах, где развитие письменности связано с распространением Библии, а язык церковных служений постепенно перенимался населением. Перспективу, которую выстраивает Флоренский, справедливо назвать культурологической. Его подход отвечает современному толкованию языка как моделирующего культурные универсалии, что позволяет говорить о них в их исторической целостности [34].
Представления Флоренского о языке становятся основополагающим звеном при формировании концепции цельного мировоззрения. В этом контексте символизм оказывается основным способом познания мира – границей, сближающей опыт познающего и реальность ноуменального. Но вопрос о том, что в символистской концепции является источником – средневековая мистика и неоплатонизм или паламитские интуиции [15, с. 426], [30, с. 198], остается открытым. С точки зрения антропологии, энергетический динамизм слова наделяет человеческую активность дополнительным аксиологическим весом, что выражено в необходимости постоянной работы по саморазвитию. С другой стороны, эти же характеристики языка ведут к положительному результату словесного обращения и приводят к автоматизации процессов познания [5, с. 103–104; 6, с. 476]. Однако необходимость максимальной концентрации духовно-волевых и интеллектуальных усилий человека в процессе получения религиозного опыта говорят о том, что преуменьшение значения человеческого участия в вопросе богопознания кажется неоправданным.
Антиномическая методология, развиваемая Флоренским, является ключевым звеном в определении символической природы языка, с последующей экстраполяцией этих идей в его философию культуры. Антиномическое прочтение символов предполагает бесконечное смысловое наполнение при конкретной его реализации. Культурные универсалии воспринимаются символически [20, с. 53], разрыв между символом и его смыслом приводит к культурному упадку. Именно поэтому Флоренский воспринимает имяславие как опыт духовной борьбы, ведь Имя Бога – это символ Божественного присутствия, открывающий путь к обожению человека. Для Флоренского, как нам представляется, символизм был способом толкования проблемы теодицеи и ее разрешения. В этом контексте антино-мизм языка оказывался обязательным условием для преображения человека посредством воздействия на него божественной энергии, воспринятой благодаря обращению к Символу – Имени Бога.
Таким образом, в трактовке Флоренского символическая природа языка становится элементом, способствующим приближению человека к цельному мировоззрению, но не играющим решающую роль: обязанность по его обретению в большей степени лежит именно на человеке. Необходимо самостоятельное моральное и умственное усилие для исповедания веры и поиска Абсолюта за материальной «завесой» мира. Язык позволяет человеку избрать верный путь обретения Истины. Языковой аспект символического восприятия мира становится структурным элементом гносеологии и антропологии Флоренского, сверхзадачей которого как мыслителя и священнослужителя является формулирование и реализация идеала цельного мировоззрения, связанного с теозисом человека и преображением культуры.
Философская тематизация языка
Флоренский посвятил много лет развитию вопроса о природе языка, онтологии и гносеологии символа. Однако из-за незавершенности разработок ряда важнейших философских интуиций, а также серьезного смещения ориентиров интеллектуальной работы в поздний период творчества (в силу изменения культурной и политической ситуации в России), четкой структуризации и темати-зации вопроса о языке Флоренским проведено не было. Мы полагаем, что исследовательская работа в данном направлении, о необходимости которой писал С.С. Хоружий [31, с. 426], должна подчеркнуть значение философских открытий Флоренского. Оценочные суждения относительно изысканий Флоренского в области языка варьируются от критических, в которых Флоренский именуется дилетантом [28, т. 3, с. 426], «разрушителем плодотворных концепций» [8, с. 589], до апологетических, где Флоренский предстает гением эпохи, предвосхитившим современный взгляд на лингвистику [17, с. 433]. Оценка лингвистических интуиций Флоренского была проведена Л.М. Алексеевой, отметившей современность идей Флоренского для сегодняшней науки [1, с. 86], Л.А. Гого-тишвили, подчеркнувшей актуальность воззрений Флоренского для современной мысли [9, с. 40]. Несмотря на критический характер посвященных творчеству Флоренского работ Н.К. Бонецкой, в них также отмечаются глубокие познания мыслителя в области знания о языке [4, с. 50].
Действительно, феномен языка в философии Флоренского занимает особое место. Характерно, что Флоренский не связывал свой интерес с развитием философии языка . Язык для него был шире самой философии, и не только философией полнился язык: наука – вторая сторона языка [28, т. 3, с. 187], но сам язык – участник сакрального действа. В этой связи Н.К. Бонецкая отмечает, что Флоренский в отношении языка в наименьшей степени может быть назван философом, ему более подходит образ учителя, нуждающегося в передаче сакральных знаний [4, с. 69]. В трудах Флоренского можно найти упоминание о языкознании [28, т. 3, с. 18] как науке о языке, его функциях, строении и истории терминологического становления. В философской тематизации языка Флоренского обнаруживается связь между внешней и внутренней формой слова, что позволяет тестировать его концепцию с точки зрения лингвистики как сложившейся дисциплины, рассматривающей такие аспекты языка, как грамматическое устройство, план выражения и план содержания [28, т. 4, с. 215], которые находят выражение в трудах А.А. Потебни [28, т. 3, с. 216], В.А. Богородского [28, т. 3, с. 221], В. фон Гумбольдта [28, т. 3, с. 145–148], М. Мюллера [28, т. 3, с. 147].
Рассуждений о языке лингвистического толка в наследии Флоренского немало [28, т. 3, с. 265– 266, 304, 456], однако это лишь одна из сторон, раскрывающая природу языка в его формальном виде. В.В. Иванов при описании отношения Флоренского к лингвистике отмечал элемент игры [12, с. 71], что может служить выражением большого интереса Флоренского к этой деятельности. Филологический аспект языка предполагал, по мысли Флоренского, изучение только мирского уровня слов – их конечную, чувственную сторону [28, т. 1, с. 325], что не соответствовало пониманию Флоренским символического характера мира в его данности человеку. Однако эта область рассмотрения языка также была плодотворна. Так, например, этимологические выкладки Флоренского оценивались исследователями как добросовестные, однако несколько устаревшие и нуждающиеся в доработке [12, с. 70; 14, с. 417–418]. Для Флоренского первостепенной была задача не охватить историю формирования слова, а скорее воссоздать его внутреннюю структуру [22, с. 286–287]. При этом осуществленные Флоренским переводы и компаративный анализ полученных результатов характеризуются как всеобъемлющие [12, с. 75]. Целью этимологических изысканий Флоренского было толкование явлений культуры с целью раскрытия заложенных в них антиномий [10, с. 477], с последующим их семантическим и словоупотребительным анализом [22, с. 287]. Другая линия работы Флоренского со словом – литературоведческая – представлена небольшим количеством работ. Свою задачу философ видел в анализе мировоззрения автора в его связи с православной традицией. Это соответствовало основному замыслу Флоренского по выявлению особенностей цельного мировоззрения. Однако малочисленность работ может свидетельствовать о том, что литературоведение в меньшей степени занимало Флоренского. Можно предположить, что текстовые анализы казались ему вторичной деятельностью по отношению к реальному опыту богопознания.
С точки зрения исследовательской перспективы, обозначаемой нами в данной работе, стоит специально отметить, что получившее активное развитие на рубеже ХХ–ХXI вв. направление тео-лингвистики не имеет еще достаточно аргументированной интерпретации языковой концепции Флоренского. А.К. Гадомский назвал целью тео-лингвистики изучение воздействия религии на язык [7, с. 288], что расходится с идеями Флоренского. Однако теолингвистика в версии В.И. По-стоваловой, основанием которой стали идеи Гумбольдта [21, с. 56], на наш взгляд, может быть соотнесена с воззрениями Флоренского. Здесь предметом изучения теолингвистики является язык как продукт синтетического взаимодействия теологии и науки о языке. При этом теолингвистика определяет язык как энергию духа [21, с. 57]. Подобное рассмотрение языка наиболее близко воззрениям Флоренского, которые становятся теоретическим основанием исследования В.И. Постоваловой [21, с. 67, 76, 83]. Однако подобный вариант теолингви-стики ограничивается энергийной характеристикой языка, в то время как сам Флоренский идет значительно дальше, раскрывая природу языка в перспективе символизма и культуры. Таким образом, язык является концептуально-смысловым и конструктивным элементом в построении концепции цельного мировоззрения, имеющей идеалообразующее значение для философа. Язык выступает началом, оформляющим культурно-религиозное единство, восходящее к православной традиции, для которой характерна жизненность и глубокая включенность человека в опыт веры. В этом контексте ряд «язык–антиномизм–символ» ведет к бо-гопознанию и, опосредованно, к спасению.
Как философ, лингвист и филолог Флоренский выходил за границы любой области знания, когда язык начинал звучать и как творческий инструмент передачи мысли, и как образ, вокруг которого выстраивались рассуждения. Флоренский, таким образом, был свободен в своих размышлениях. Именно поэтому способ говорения Флоренского о природе языка исходит из более глубоких, интуитивных стремлений. Тотальность, «неотвратимость» языка по отношению к мыслительному миру человека позволяют говорить о языковой картине мира как обязательной характеристике цельного мировоззрения, имеющего в своем основании и индивидуализированную языковую картину мира. Язык в таком прочтении может быть охарактеризован как путь, ведущий к цельному знанию и абсолютному мировоззрению. Эта мировоззренческая интенция Флоренского, объединяя в самом основании проблемы теодицеи и антроподицеи, подготавливает интеллектуальную почву для развития авторской версии онтологически понятого языкового символизма, философии культа и культуры. Цельное мировоззрение в этом ключе становится вершиной развития языковой картины мира, строящейся с учетом выделяемых Флоренским принципов аритмологии и антиномич-ности жизненных явлений и мысли. Она призвана прояснить главную цель – стремление человека и человечества к трансцендентному идеалу – к Богу. Так развиваемая Флоренским концепция цельного мировоззрения, значимая в философском отношении, обретает и особый этический смысл как духовно-интеллектуальная программа, противостоящая деконструкции христианских смыслов и ценностей, что делает ее актуальной в опыте современной культуры.