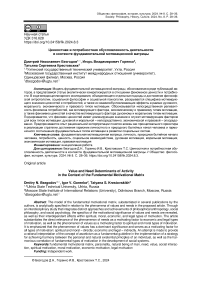Ценностная и потребностная обусловленность деятельности в контексте фундаментальной мотивационной матрицы
Автор: Безгодов Д.Н., Горенко И.В., Крестовских Т.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
Модель фундаментальной мотивационной матрицы, обоснованная в ряде публикаций авторов, в предлагаемой статье аналитически конкретизируется в отношении феноменов ценности и потребности. В ходе междисциплинарного исследования, объединяющего отдельные подходы и достижения философской антропологии, социальной философии и социальной психологии, раскрывается специфика мотивирующего значения ценностей и потребностей, а также их взаимообусловливающие эффекты в рамках духовного, морального, экономического и правового типов мотивации. Обосновывается непосредственная релевантность феномена потребностей, как мотивирующего фактора, экономическому и правовому типам мотивации, а также феномена ценностей в качестве мотивирующего фактора духовному и моральному типам мотивации. Подчеркивается, что феномен ценностей имеет доминирующее значение и служит мотивирующим фактором для всех типов мотивации: духовной и моральной - непосредственно; экономической и правовой - опосредованно. Предпринимается опыт рациональной интерпретации понятия аскезы как принципиального ориентира в реализации стратегии достижения гармонии личностного и природного бытийных начал человека и гармоничного соотношения фундаментальных типов мотивации в развитии социальных систем.
Фундаментальная мотивационная матрица, личность, природное бытийное начало человека, потребность, ценность, социальное взаимодействие, духовная мотивация, моральная мотивация, экономическая мотивация, правовая мотивация
Короткий адрес: https://sciup.org/149146447
IDR: 149146447 | УДК: 316.628 | DOI: 10.24158/fik.2024.8.3
Текст научной статьи Ценностная и потребностная обусловленность деятельности в контексте фундаментальной мотивационной матрицы
Феномены потребности и ценности по-разному, с разными функциями и результатами, входят в мотивационную ткань жизнедеятельности человека (Хекхаузен, 2003). Рассмотрение этих феноменов как факторов мотивации в контексте фундаментальной мотивационной матрицы (ФММ) позволяет выработать надежные критерии для оценки различных теоретических и идеологических моделей общества и, прежде всего, версий общественного идеала как интегрированного выражения теоретических или идеологических представлений о нормах наилучшего устройства общества.
Ценностная и потребностная модификации ФММ позволяют глубже раскрыть социальное значение ряда базовых социально-экономических феноменов в контексте глобальной капиталистической модели экономики – таких как труд, собственность, успех, роскошь, потребление – и перспективы глобальных социальных трансформаций1 (Хекхаузен, 2003; Цхадая, Безгодов, Беляева, 2021; Безгодов, Крестовских, Башкиров, 2022; Лосский, 2000; Маркс, Энгельс, 1984; Момджян, 2015; Наше общее будущее…, 1989; Горенко, Безгодов, Горенко, 2018; Безгодов, Башкиров, Крестовских, 2022).
Принимая понимание феномена потребностей, устоявшееся в отечественной социальнофилософской литературе2, авторы опираются на трактовку феномена ценности, имплицитную аксиологии русского интуитивизма: «Ценность – это любой фактор, определяющий траекторию движения индивида к цели, создаваемый этим индивидом и не обладающий характером объективной природной необходимости» (Безгодов, 2008).
Феномены ценности и потребности являются классическими темами научно-гуманитарных исследований (Хекхаузен, 2003; Лосский, 2000; Маслоу, 2013). Вместе с тем представляется, что логика обоснования фундаментальной мотивационной матрицы позволяет рассмотреть эти феномены в новом ракурсе, ключевое преимущество которого заключается в дополнении социально-философской исследовательской оптики философско-антропологической, что обеспечивает высокую степень системности анализа этих феноменов и, как следствие, логическую строгость результатов (Цхадая, Безгодов, Беляева, 2021; Безгодов, Крестовских, Башкиров, 2022).
Определяющее ФММ различение природного и личностного бытийного начала человека в соотнесении с социальными побуждениями деятельности, различно воздействующими на два этих начала, открывает возможность не только более строгого различения собственно феноменов потребностей и ценностей в качестве побудителей деятельности, но также особых компонентов этих феноменов, значимых в контексте их мотивирующей функции: в феномене потребности – направленности личности на потребностное качество и направленности на источник потенциального удовольствия (либо функционально аналогичную направленность к средству снятия напряжения от неудовольствия); в феномене ценности – ориентирующую направленность (восприятие ценности как цели деятельности) и самоактуализирующую направленность (восприятие ценности как идентификационного качества личности).
При всех различиях трактовок феномена природных потребностей человека, проистекающих из специфики отраслей гуманитарного знания и неустранимого в гуманитарном знании противоборства методологических подходов (нередко обусловленного мировоззренческими, «идейными» расхождениями), к объективно усматриваемому компоненту содержания феномена природных потребностей можно отнести существенную зависимость жизнедеятельности человека от конкретной определенности его природного начала3 (Леонтьев, 2005). Как явление и «часть природы» человек определенным образом вписан в её систему и для поддержания, а также продления своего конкретного индивидного существования предопределен осуществлять активный обмен веществом и энергией с окружающей средой, вместе с которой он составляет единое системное целое природы.
Также и в отношении понимания феномена природы в философии, науке и иных сферах культуры можно констатировать определенный феноменологический консенсус, который можно выразить кантовской формулировкой: «Под природой (в эмпирическом смысле) мы разумеем связь существования явлений по необходимым правилам, то есть по законам» (Кант, 1964). Кантовское определение природы выражает не только научную интуицию необходимой, общезначимой связи явлений природы, которую наука постигает и выражает в форме аподиктической закономерности, но и религиозную, даже житейскую интуицию некоего порядка реальности, которому человек принудительно соответствует, поскольку находится, хотя бы отчасти, внутри этого по-рядка1 (Лосский, 2000).
Живые существа вписаны в порядок природы таким образом, что взаимодействие с другими её частями осуществляется ими посредством испытываемого своеобразного нажима их собственной природы на их же существо, которое чувствует, переживает этот нажим, испытывает тягу, влечение, надобность во взаимодействии с другими частями природы. К понятию надобности в определении понятия «потребность», которые представляются просто эквивалентными в отношении практики словоупотребления, прибегает, в частности, профессор К.Х. Момджян. Он определяет потребность как «свойство живого организма испытывать надобность в необходимых условиях своего существования»2 (Момджян, 2015). Это определение на грани тавтологии в сочетании с различением состояний удовлетворенности и неудовлетворенности потребностей создает логическую предпосылку различения качественной и удовольственной составляющих феномена потребности.
В понятии надобности здесь фиксируется интуиция объективной законосообразной вписанности природных объектов или систем в некую систему природы как среду своего существования, так что любой конкретный объект может существовать только в определенной среде, взаимодействуя с нею определенным законосообразным способом. Живое существо обладает специфическим свойством испытывать надобность как давление природных закономерностей изнутри, а также определенные ощущения, беспокоящие его и как-то сигнализирующие ему по поводу отклонения или намечающегося отклонения текущего способа существования от оптимальной конфигурации его законосообразной вписанности в среду.
Состояние острой неудовлетворенности текущим состоянием вписанности в среду профессор К.Х. Момджян называет нуждой. Правда, понятие нужды он применяет уже к человеку и фиксирует в нем разновидность неудовлетворенной потребности. Понятие потребности традиционно применяется по отношению ко всем живым существам, в соответствии с приведенным выше определением. Однако представляется целесообразным закрепить использование этого термина за специфически человеческим способом вписанности в систему природы.
Классическое, сформулированное еще К. Марксом, различение инстинктивного удовлетворения нужды животными и осознанного удовлетворения нужды человеком, отчетливо фиксирует момент идеальной представленности в сознании человека предмета удовлетворения конкретной нужды (Маркс, Энгельс, 1984). Однако, согласно проведенным различениям, следует различать понимание нужды как состояния острой неудовлетворенности человека текущим состоянием собственной вписанности в систему природы и осознание надобности как самой этой законосообразной вписанности собственного существа в систему природы и проистекающих из этого общего состояния многообразных отдельных требований собственной природы, удовлетворение которых необходимо для поддержания оптимальной конфигурации вписанности собственного существа в систему природы.
Человек, в отличие от животного, осознает надобности не только, когда они остро не удовлетворены, но и когда удовлетворены на какое-то время (надобность в пище, хотя сыт), а также те, которые, как правило, не беспокоят (надобность в чистом воздухе). Он понимает собственное незнание всех закономерностей своей вписанности в систему природы, то есть природы в её целокупности, включая собственную природу, и, как следствие, осознаёт неполноту своего знания собственных объективных надобностей. Для их познания человек постоянно предпринимает исследовательские усилия.
Такие, остающиеся за горизонтом актуального знания, «требования» предлагается фиксировать в понятии «надобность», имея в виду, что для животных любые «требования» остаются незнаемыми, и, следовательно, в понятии «надобность» фиксируется данная в интуиции только человеку, общая для живых существ законосообразная вписанность в систему природы. А всё множество специфически человеческих осознаваемых надобностей предлагается фиксировать понятием «потребность».
Во всяком случае, для целей настоящего исследования предлагается различать надобность как побудительную силу объективной вписанности живого существа в систему природы; потребность – как осознанную конкретную надобность, когда интуиция вписанности в систему природы выражается в знании конкретных действий по обеспечению оптимального способа его вписанности в эту систему; нужду – как чувственно актуализированную надобность. Для животного нужда – это единственный способ актуализации надобности. Для человека все надобности существуют, прежде всего, в форме потребностей, а нужда является разновидностью потребности, т. е. неудовлетворенной потребностью. И даже если та или иная надобность впервые заявляет о себе именно в форме нужды, то она, в ситуации человека, сразу осознается и воспринимается как потребность.
Заметим, что применение понятия «потребность» и к человеку, и к животному требует для необходимого различения специфики указания на их видовой признак: животная и человеческая потребность и далее – животный и человеческий способ удовлетворения потребности. Однако важно отметить, что человек также удовлетворяет часть своих «потребностей» «животным» способом – потребность в воздухе, например.
Поэтому следует различать именно уровни взаимодействия человека со средой: уровень надобности, когда все необходимое взаимодействие осуществляется как бы автоматически, предопределенным природой способом, и уровень потребности, когда взаимодействие осуществляется осознанно, с ориентацией в среде при помощи идеального образа предмета, на который направлено конкретное взаимодействие1.
При этом, собственно, в феномене потребности очень важно различать саму по себе осмысленную целевую ориентацию на предмет удовлетворения потребности и устремленность человека, как чувствующего существа, на этот предмет, как на источник удовольствия, неразрывно сопряженного с самим процессом удовлетворения потребности.
В целом, феномен удовольствия можно трактовать как сугубо органическую реакцию на процесс удовлетворения нужды, снятия напряжения, связанного с переживанием нужды живым существом. Но концептуализация момента удовольствия в составе феномена удовлетворения нужды требует различений её животного и человеческого характера. Для животного существа удовольствие неразличимо слито с объективным, но неосознаваемым процессом удовлетворения нужды. А в составе феномена удовлетворения потребности, достигшей состояния нужды, феномен удовольствия имеет явный самостоятельный смысл.
Идеальный образ предмета удовлетворения потребности может с большой степенью детализации раскрываться в сознании человека, деятельно достигающего этого предмета, со стороны его объективных качественных и количественных характеристик, рассматриваемых, прежде всего, в аспекте их соответствия характеру потребности, мотивирующей данную деятельность. Момент возникновения ощущения удовольствия, сопряженного с моментом достижения состояния удовлетворения потребности, в составе феномена удовлетворения потребности осознается человеком именно как отдельный, самостоятельный момент, отличаемый от объективного соответствия «достигнутого предмета» характеру потребности. Наступит удовольствие в данном конкретном случае удовлетворения потребности – будет приятно, не наступит по каким-то причинам (болезнь, например) – объективно осознаваемую потребность все равно нужно удовлетворять «предметом» с заданным набором объективно фиксируемых качественных и количественных характеристик (хоть и без аппетита, а больному определенную еду есть надо).
Таким образом, в мотивационной ткани деятельности, направленной на предмет удовлетворения потребности, отчетливо различаются идеальный образ этого предмета вместе с планом по его достижению и момент предвосхищения удовольствия от предполагаемого этим планом состояния наступившего удовлетворения потребности. Такое различение чрезвычайно важно, чтобы не сводить мотивы реализации потребности к переживанию желания, то есть такой ситуации, когда человек оказывается поглощенным моментом предвосхищения удовольствия. Вместе с тем, это различение также необходимо и для того, чтобы при идентификации мотива учитывать это переживание, не впадать в рационалистический соблазн редуцирования человека к ложному эталону чисто рационального деятеля, свободного от чувственной составляющей мотивационной ткани деятельности. Практическое соскальзывание в ту или иную крайность означало бы болезненное искажение жизнедеятельности человека.
Все идеологии и научные социальные теории в отношении феномена личности можно разделить на персоналистические, то есть признающие реальность личностного бытийного начала в человеке, и имперсоналистические – реальность личностного бытийного начала в человеке отрицающие, что в теоретическом плане, как правило, выражается в редукции человеческого существа к природному бытийному началу (Безгодов, Башкиров, Крестовских, 2022; Леонтьев, 2005; Лосский, 2003).
В контексте имперсоналистических теорий общества и идеологий, упраздняющих различение личностного и природного начала в человеке, интерпретация горизонтальных уровней ФММ приобретает вид, в соответствии с которым эти уровни по существу распределяют не столько мотивационные установки, по-разному актуализируемые в человеке, сколько типы людей. Есть люди, не способные от природы подняться выше экономической и правовой мотивации, а есть те, которые именно от природы могут и поднимаются выше – до уровня моральной и духовной мотивации. А. Маслоу, например, содержание уровня самоактуализации в своей пирамиде раскрывает как характеристику особой категории людей, которых он так и называет – самоактуали-зирующиеся люди (Хьелл, Зиглер, 1999).
Исходя из приведенного соображения, должно быть ясно, что всю полноту специфических влияний потребностного и ценностного рядов факторов мотивации можно представить, анализируя мотивацию в контексте только персоналистического подхода к пониманию человека и общества. Таким образом, аналитика мотивации человеческой жизнедеятельности на основе ценностной и потребностной модификаций ФММ в рамках персоналистического понимания человека и общества представляется парадигмальной для понимания всех иных истолкований феномена мотивации и логически связанных с этими истолкованиями определений общественного идеала и моделей общественного устройства.
Разумеется, что и в рамках персоналистического подхода аналитика мотивации создает основания для типологии личностей. Однако персоналистическая типология не приводит к редукции человека к природе ни в одном из логически или практически фиксируемых типов личности, поскольку персоналистический подход устанавливает однозначное онтологическое верховенство ценностной модификации ФММ над потребностной. Это ни в коей мере не говорит о недооценке значения природных потребностей в понимании человека и его жизнедеятельности. Но и в отношении даже самых крайних форм утилитаристского, потребительского поведения пер-соналистический подход предлагает видеть ценностную ориентацию личности.
Для человека, заботящегося только о хлебе насущном, с точки зрения персонализма, именно материальная сторона жизни, предметы природных потребностей становятся высшей ценностью, потому что он воспринимает их природу в идеальной проекции бесконечности, а также как определяющую интегративный вектор и смысл его существования. Таким образом, во избежание сущностной (онтической) интерпретации личности в процессе типологизации этого феномена, в рамках персоналистического подхода предпочтительно говорить не о типологии личностей, а о типологии личностных стратегий жизнедеятельности, определяемых в соответствии с принимаемой человеком иерархией ценностей.
В отношении духовной мотивации деятельности ценности, принимаемые человеком, выступают непосредственным источником содержания этого мотива (Лосский, 2000). Духовно мотивированная деятельность в целом может быть охарактеризована как аскетическое творчество (Хоружий, 2005; Цхадая, Безгодов, Беляева, 2021). Понятие аскезы здесь берется в принципиальном смысле как усилие и соответствующее искусство ограничения природных потребностей человека ради достижения целей, релевантных его личностному бытийному началу. Разумеется, специфические религиозные и бытовые коннотации понятия аскезы в отношении общей характеристики духовной мотивации должны быть заключены в скобки (Цхадая, Безгодов, Беляева, 2021).
Смысловая связь аскезы и творчества представляется феноменологически достоверной. Творческая деятельность мыслится как осуществление притязания личности на производство феноменов, выступающих за пределы системы природы, системы явлений, связанных между собой необходимыми, устойчивыми, общезначимыми причинно-следственными отношениями.
В процессе творчества человек создает новое, нечто такое, что не может быть усмотрено заранее как логически доказуемый вывод из посылок, описывающих сумму предшествующих ситуации природных явлений и их условий. И этот выход за пределы всего, предопределенного природными закономерностями, оказывается возможным благодаря исконному бытийному положению человека как существа, способного к такому выходу, то есть как личности. Творчество требует личностных сверхусилий. Смысл аскезы открывается уже в элементарном переживании человеком собственной отстраненности от природных импульсов, побуждающих природное начало к закономерным реакциям. Аскеза помогает сконцентрировать всю личностную энергию человека и все его природные ресурсы, чтобы направить их на достижение целей творческой деятельности (Хоружий, 2005; Цхадая, Безгодов, Беляева, 2021).
Содержание ценностей усваивается личностью в результате откликающегося на них обращения ума, нравственного и эстетического чувства личности. И весь соответствующий процесс – привлечение внимания человека к определенным ценностям, их анализ, идентификация, определение степени значимости, принятие, усвоение, перестройка на их основе системы ценностных ориентаций, отдельных видов деятельности или образа жизни в целом – все это сознается человеком как свободно осуществляемый процесс, не вынужденный той или иной природной закономерностью (Безгодов, Башкиров, Крестовских, 2022). Ценности не вынуждают человека к поведенческим реакциям, а призывают его, как личность, к ориентации на них и к усвоению их содержания.
В процессе творческой, духовно мотивированной деятельности человек воспринимает личностное начало как откликающееся на призывы, призвания ценностей, вдохновляющееся ими и увлекающее за собой по направлению к источнику призыва всю целокупность человеческого бытия. Природное начало в процессе творчества воспринимается личностью как необходимая опора, источник жизненных сил, ресурсов, материальный и очень сложный инструмент творчества. В порыве вдохновенного творчества достигается гармония личностного и природного бытийных начал человека. Личность только открывает пути и способы деятельности, природа управляется без какого-либо негативного сопротивления, в состоянии возникшей склонности, как бы в порядке «предустановленной гармонии».
В составе моральной мотивации ценности трансформируются в нормы. В процессе морального поведения человек, хотя и сознает себя свободным в осуществлении действий (природные обстоятельства насильственно не определяют их), но при этом он также сознает, что характер его отношения к ценностям принципиально изменился: теперь ценности не призывают его, не вдохновляют, а, трансформировавшись в форму морального закона, в форму долга, повелевают ему.
Человек сознает парадоксальность ситуации: чтобы сохранять свое человеческое достоинство, оставаться личностью, то есть существом свободным, способным господствовать над своим природным началом, самостоятельно определять траекторию своей жизни, он должен ограничить свою свободу, добровольно принять власть долга и соблюдать определённое множество моральных норм.
В такой модификации ценности из поощрительной формы социального воздействия на человека превращаются в наказательную, что ущемляет переживание радости и гармонии от самого принятия ценностей. При этом в самом качестве наказательного воздействия при моральном типе мотивации важно видеть принципиальное отличие от наказания через природное бытийное начало человека. В русском языке соответствующее различение можно выразить с помощью однокоренных слов «наказ» и «наказание». Ценности в моральной модификации не «наказывают», а «дают наказ», будучи обращены непосредственно к личностному бытийному началу человека.
В соответствии с ФММ социальное воздействие может быть обращено непосредственно не только к личностному, но и к природному началу человека. Различение непосредственной и опосредованной обращенности социального воздействия к одному или другому бытийному началу также имеет принципиальное значение. Очевидно, что любую деятельность человек осуществляет как бы-тийно цельное существо; в деятельности всегда участвуют и личностное, и природное его начало.
Например, в описанной выше деятельности при духовном типе мотивации личность опирается на природу человека, вовлекает ее в деятельность, при моральном поведении - побуждает её к участию в определённых действиях. Однако человек осуществляет принципиально различные формы деятельности в зависимости от того, к какому бытийному началу непосредственно обращено социальное воздействие. И поэтому непосредственная обращенность к одному началу означает, что к другому началу это конкретное воздействие в данной конкретной ситуации обращено опосредованно.
В ситуации непосредственного социального воздействия на личностное начало человек свободно принимает или не принимает содержание этого воздействия в качестве источника вдохновения или морального побуждения, и, в случае принятия, понуждает собственную природу к соответствующему функционированию. В ситуации непосредственного социального воздействия на природное начало он испытывает давление на свое существо в целом, втягивающее его в определенную деятельность, направленную на удовлетворение природных потребностей, или принуждающее к таковой посредством лишения или ограничения возможности удовлетворять эти потребности.
В такой ситуации личность испытывает социальное воздействие опосредованно через природу. Как господствующее начало, личность и в этой ситуации несет ответственность за управление жизнедеятельностью человека. Но характер и результаты такого управления будут иными. Разумеется, в такой ситуации многократно возрастает риск ущемления значимости личностного начала.
При экономической мотивации деятельности пределом ущемления личностного начала будет крайне гедонистический образ жизни, когда личность практически без сопротивления увлекается потоком нарастающих удовольствий (Безгодов, Башкиров, Крестовских, 2022). При правовой мотивации предел ущемления личности - это радикальное ограничение физической свободы, приближающее человека к рабскому положению. Полное «отключение» личностного начала и редукция жизнедеятельности человека к чисто природному способу существования, вне всяких сомнений, является патологией. Полное отключение природного начала является возможностью чисто умозрительной. Само стремление к такому состоянию и, тем более, переживание его достижения также является патологией особого духовного рода, которая в православной аскетике, например, именуется «духовной прелестью», то есть духовным самообманом (Хоружий, 2005).
Социальное воздействие на природное начало человека осуществляется посредством предметов потребностей. При экономическом типе мотивации деятельности социальное воздействие стимулирует природное начало посредством удовлетворения конкретной потребности или реализации интереса, а также импульсами, возбуждающими предвосхищение продления наличного удовлетворения или его достижения в будущем. Сложность ситуации потребностного воздействия состоит в том, что специфика человеческого удовлетворения потребностей предполагает, как было указано выше, момент осознанности и, следовательно, соответствующее социальное воздействие также должно быть осознано, чтобы актуализировать потребность и стимулировать деятельность по его удовлетворению. Это обстоятельство, на первый взгляд, требует мыслить любое воздействие на природное начало как опосредованное.
Никакое социальное воздействие не вызывает природных реакций без опосредования или, по меньшей мере, сопровождения их осознанием этого воздействия. При этом сознание природных потребностей и обусловленных ими интересов включает в себя понимание их законосообразной принудительной силы. Их невозможно свободно принять или отвергнуть как ценности. На их давление следует реагировать, как на фактические обстоятельства человеческого бытия, обусловленные природной необходимостью. Можно полностью поддаться их давлению и направить все жизненные силы на удовлетворение потребностей.
Другой крайностью жизненного самоопределения человека является ситуация, когда при радикальном расхождении ценностных ориентаций и природных потребностей он выбирает ценности вплоть до полного физического самопожертвования, как мученики за веру, герои, идущие на смерть во имя высших ценностей. Эти полярные диспозиции человеческого существования в равной степени, но по-разному, означают прекращение земного существования человека: состояние крайнего биологического конформизма означает потерю человеческого облика, а состояние абсолютного отвержения требований собственной природы означает для человека прекращение его земного, физического существования. Между этими полюсами жизненного самоопределения он находит большую палитру стратегий управления собственной природой.
Потребность проявляется в природе человека непосредственно и непосредственно же удовлетворяется. Собственно природные его потребности проявляются в соответствии с двумя формами воздействия: импульсными сигналами из ткани природного начала и проистекающими из опыта сознательными решениями личности о принятии превентивных мер для удовлетворения тех или иных потребностей.
Будучи поощрительным модусом социального воздействия, экономическая мотивация в ситуации первой формы воздействия на природное начало человека производит либо импульс состоявшегося удовлетворения нужды, сопровождающегося импульсом удовольствия, либо импульс удовольствия, объективно связанный с процессом удовлетворения какой-либо конкретной потребности, притом что к моменту состоявшегося стимулирования, вызвавшего удовольствие, потребность пребывает в удовлетворенном, неактуализированном состоянии. Тем не менее в обоих случаях сам момент удовольствия является однозначным маркером поощрительного характера состоявшегося социального воздействия.
Вторая форма социального воздействия по типу экономической мотивации представляет собой обращенное к личностному началу человека «предложение» о перспективах разового либо регулярного удовлетворения той или иной его природной потребности. Принимая соответствующие «предложения», человек «в обмен» осуществляет ту или иную социально востребованную деятельность и обеспечивает тем самым удовлетворение потребностей, релевантных полученному «предложению».
Содержание правовой мотивации в соответствии с ФММ определяется спецификой наказа-тельного социального воздействия. Оно по типу правовой мотивации осуществляется также в двух формах, как и при экономической мотивации, однако их результирующее значение для последующей деятельности существенно отличается. Социальное воздействие по первой форме в рамках правового типа мотивации актуально всегда, включая и периоды актуализации второй формы.
Содержанием социального воздействия по первой форме по типу правовой мотивации на природное бытийное начало человека является момент неудовольствия в спектре вплоть до предельных степеней страдания, включая страх смерти. Принципиальное формальное отличие между тем, как актуализируется данная форма в пределах правовой и экономической мотивации, заключается в соотношении времени ее ощутимого воздействия и времени действия соответствующего правового мотива в отношении человека в целом.
При экономической мотивации момент удовольствия проявляется в природном начале им-пульсно, дает сигнал личностному началу, а далее экономический мотив проявляется как осмысленное основание для соответствующей деятельности и ее планирования. При правовой мотивации момент неудовольствия в отношении природного начала имеет форму непрерывной длительности независимо от степени вовлеченности личностного начала человека в соответствующее поведение. Неся правовую ответственность, предпринимая действия по ее компенсации в ответ на социальное воздействие по второй форме, человек тем не менее будет испытывать постоянный дискомфорт в отношении природного начала до тех пор, пока действие правовой мотивации полностью не прекратится.
Разумеется, личностное начало участвует в организации деятельности человека, испытывающего социальные воздействия по правовому типу мотивации. Потребности, по определению, не могут быть удовлетворены без момента их осознания. В ситуации правовой мотивации, то есть систематического ущемления, дефицита возможностей удовлетворения объективных потребностей, основная роль личностного начала состоит в разработке, обосновании и реализации программы по скорейшему прекращению действия режима правовой мотивации.
Практическая значимость обоснованных в предпринятом исследовании ценностной и по-требностной модификаций фундаментальной мотивационной матрицы рассматривается в контексте организационного управления и, прежде всего, в процессе принятия управленческих решений по совершенствованию организационной культуры как универсального инструмента управления, обеспечивающего гармоничное сочетание в деятельности организации всех типов мотивации, образующих фундаментальную мотивационную матрицу.
Список литературы Ценностная и потребностная обусловленность деятельности в контексте фундаментальной мотивационной матрицы
- Безгодов Д.Н. Идеал-реализм Франка в перспективе развития вузовской организационной культуры // Сборник научных трудов: материалы VIII научно-технической конференции: в 2 ч. Ухта, 2008. Ч. 2. С. 224–230.
- Безгодов Д.Н., Башкиров С.П., Крестовских Т.С. Труд и роскошь в контексте идеологии устойчивого развития // Управление устойчивым развитием топливно-энергетического комплекса: мат. всероссийской науч.-практ. конф. с международ. участием. Ухта, 2022. С. 190–195.
- Безгодов Д.Н., Крестовских Т.С., Башкиров С.П. Пирамида Арчи Кэрролла и фундаментальная мотивационная матрица // Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность. 2022. Т. 3, № 4. С. 215 –230. https://doi.org/10.18334/social.3.4.116748.
- Горенко Г.М., Безгодов Д.Н., Горенко И.В. «Исправление имен» в понимании кризисных явлений современной культуры // Вестник развития науки и образования. 2018. № 2. С. 59–69.
- Кант И. Сочинения: в 6 т. М., 1964. Т. 3. 798 с.
- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 2005. 431 с.
- Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой личности // Боговидение. М., 2003. C. 645–657.
- Лосский Н.О. Ценность и бытие. Харьков; М., 2000. 864 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Избранные сочинения: в 9 т. М., 1984. Т. 1. XXVI, 549 с.
- Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2013. 352 с.
- Момджян К.Х. Универсальные потребности и родовая сущность человека // Вопросы философии. 2015. № 2. С. 3–13.
- Наше общее будущее: доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКССОР) / пер с. англ.; под ред. С.А. Евтеева, Р.А. Перелета. М., 1989. 371 с.
- Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. СПб.; М., 2003. 860 с.
- Хоружий С.С. Очерки синергийной антропологии. М., 2005. 407 с.
- Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 1999. 608 с.
- Цхадая Н.Д., Безгодов Д.Н., Беляева О.И. Миссиотропная аксиологика университета // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 7. С. 60–71. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-7-60-71.
- Цхадая Н.Д., Безгодов Д.Н., Беляева О.И. Университетское образование и ценностная проекция концепции корпоративной социальной ответственности // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 4. С. 86–98. https://doi.org/10.31992/0869-3617-2021-30-4-86-98.