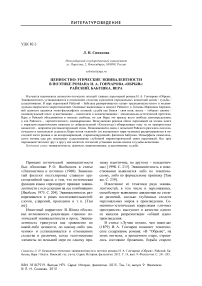Ценностно-этические эквивалентности в поэтике романа И. А. Гончарова "Обрыв": Райский, Бабушка, Вера
Автор: Синякова Людмила Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Изучается взаимосвязь ценностно-этических позиций главных персонажей романа И. А. Гончарова «Обрыв». Эквивалентность устанавливается в отношениях сходства и различия персональных концепций жизни / судьбы / существования. В паре персонажей Райский - Бабушка разворачивается «спор» традиционалистского и индивидуально-творческого мироотношений. Основные выявленные в диалоге Райского и Татьяны Марковны Бережковой ценности касаются этико-философских позиций: судьба как Божья / своя воля; жизнь - «общие» законы / индивидуальный опыт; существование - самоотдача и долженствование / эмоционально-эстетический протеизм. Вера и Райский объединяются в поисках свободы, но для Веры это прежде всего свобода самоопределения, а для Райского - «артистического» самовыражения. Возмущенная реакция обоих персонажей на чтение книги с морально-дидактическим выводом (о добродетельной «Кунигунде») обнаруживает одну из их приоритетных ценностей - неприятие регламентирующей этики. Возникающий в связи с попыткой Райского разгадать психологическую и ментальную сущность Веры мотив «ключей» (от внутреннего мира человека) распространяется в последней части романа и на всепримиряющий, «гармонизирующий» фатализм Бабушки. Изоморфизм символического мотива еще раз доказывает существование глубинной мировоззренческой связи персонажей. Все трое персонажей тяготеют друг к другу как носители этической установки жизни-поиска и судьбы-испытания.
Эквивалентность, ценности, миропонимание, существование, судьба
Короткий адрес: https://sciup.org/147219454
IDR: 147219454 | УДК: 82-3
Текст научной статьи Ценностно-этические эквивалентности в поэтике романа И. А. Гончарова "Обрыв": Райский, Бабушка, Вера
Принцип поэтической эквивалентности был обоснован Р. О. Якобсоном в статье «Лингвистика и поэтика» (1960). Знаменитый филолог постулировал ставшую хрестоматийной мысль о том, что поэтическая функция языка «проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» [Якобсон, 1975. С. 204]. Эквивалентность разворачивается в рядах последовательностей: слогов, ударений, просодики и т. п. [Там же].
Известный нарратолог В. Шмид обосновал возможность реализации «закона» поэтической эквивалентности в прозе. Эквивалентность трактуется как «равенство по какой-либо ценности, по какому-либо значению» и устанавливается в отношениях сходства и различия, когда «соотносимые элементы по меньшей мере по одному при- знаку идентичны, по другому – неидентичны» [1998. С. 215]. Эквивалентность в повествовании выявляется либо по тематическому, либо по формальному признаку [Там же. С. 239].
Извлечение из тематики ряда эквивалентностей, в том числе и персонажных, способствует выявлению диалектики не столько различий, сколько глубинных сходств персональных миров в произведении. Семантико-эстетическая корреляция «личных пространств» выступает в качестве одного из каналов репрезентации «общей идеи» произведения.
В статье «Лучше поздно, чем никогда» (1879) И. А. Гончаров поясняет тематическое содержание романа: «В “Обрыве”, на моих пигмеях, в крошечном озере, отразилось состояние брожения, борьба старого
Синякова Л. Н. Ценностно-этические эквивалентности в поэтике романа И. А. Гончарова «Обрыв»: Райский, Бабушка, Вера // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 9: Филология. С. 241–245.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 9: Филология
с новым» («Лучше поздно, чем никогда», 1879) [Гончаров, 1980. Т. 8. С. 122] 1. В персонажной композиции «на первом плане – Райский и Бабушка, потом Вера, Волохов, <…> и, наконец, Тушин» (Т. 8. С. 117). Именно Райский и Бабушка представляют пару персонажей, центрирующую остальную группу: Вера, Марфенька, Волохов, учитель Козлов и прочие собираются в единую персоносферу в том или ином соотнесении с Райским и Татьяной Марковной Бережковой 2. В настоящей статье мы попытаемся проследить изоморфизм персональных концепций жизни / судьбы / существования Райского, Бабушки и Веры в художественной структуре романа И. А. Гончарова «Обрыв».
Спор Бабушки с Райским в главном определяется как спор практического консерватизма и «мечтательного» прогрессизма (Т. 8. С. 123). Конечно, Райский – «артист», ищущий «настоящей жизни» 3, но вместе с тем он искренен в своем желании «разбудить» обитателей Малиновки: «“Как это они живут?” <…> “ Что Бог даст!” – говорит бабушка» (Т. 5. С. 224). Бабушка опирается «деспотически на авторитет уже не мудрости, а родства и своих лет» (Т. 5. С. 225). Общение Райского с Татьяной Марковной выявляет их прагматические установки: Бабушка для Райского – «деспот», Райский для нее – «своеобычный человек».
В 9-й главе 2-й части обмен этими номинациями обоюден: Райский нехотя повинуется Бабушке – ложится спать на мягкие подушки и позволяет Егорке прислуживать ему. «Какая настойчивая деспотка!» – досадует он (Т. 5. С. 222). Татьяна Марковна удивляется, услышав отказ гостя от курения в спальне: «Какой своеобычный! Даже бабушки не слушает! Странный человек!» (Т. 5. С. 223) 4. Аттестация Райского как человека «необыкновенного» и «своеобычного» повторяется во второй части романа (в ней персонажи «приглядываются» друг к другу) из главы в главу (Т. 5. С. 164, 176, 219, 226 и др.).
Райский отвергает упреки Бабушки исходя из того, что «своеобычность», самостоятельность решения и поступка, является основным принципом персональной свободы: «Как же: ешь дома, не ходи туда, спи. Когда не хочется, – зачем стеснять себя? <…> О деспотка, вы, бабушка, эгоистка! Угодить вам – не угодить себе; угодить себе – не угодить вам: нет ли выхода из этой крайности?» (Т. 5. С. 219). Отношения взаимного «деспотизма» фиксируются обеими сторонами: Бабушке непонятна самостоятельность Райского, Райскому – настойчивость Бабушки.
Мировоззрение Бабушки заключается в следовании установленному порядку вещей и тщательно оберегаемом от посторонних глаз личном опыте: «Она говорит языком преданий, сыплет пословицы, готовые сентенции старой мудрости, <…> и весь наружный обряд жизни отправляется у ней по затверженным правилам. <…> в тех случаях, которые не могли почему-нибудь подойти под готовые правила, у бабушки вдруг выступали собственные силы, и она действовала своеобразно» (Т. 5. С. 224).
Райский, напротив, находится в постоянном поиске новых впечатлений («Только ощущать жизнь, а не смотреть на нее…» (Т. 5. С. 162)), а то и потрясений («...жизнь “для себя и про себя” – не жизнь, а пассивное состояние: нужно слово и дело, борьба» (Т. 5. С. 212)). Бабушка настаивает на фаталистическом приятии судьбы: «Никогда не говори: “непременно” <…> Боже сохрани!»; «Даст тебе когда-нибудь судьба за это “непременно”! Не говори этого! А прибавляй всегда: “ хотелось бы”, “Бог даст, будем живы да здоровы…” А то судьба накажет за самонадеянность…» (Т. 5. С. 229). Райский возражает: «Какое рабство! <…> вы думаете, что к человеку приставлен какой-то невидимый квартальный надзиратель, чтоб будить его? <…> Как жизнь-то эластична!» (Т. 5. С. 230).
Впрочем, в конце этого спора герой признает правоту Татьяны Марковны: «Я бьюсь, чтобы быть гуманным и добрым: бабушка не подумала об этом, а гуманна и добра. <…> если я… бываю снисходителен, так это из холодного сознания принципа, у бабушки принцип весь в чувстве, в симпатии, в ее натуре!» (Т. 5. С. 231). Заметим, что Райский здесь полагает себя едва ли не рассудочным эгоистом, что не совсем верно, если учитывать основное свойство его характера – эмоциональную восприимчивость и, в силу этого, пусть и недолговечную, готовность служить новому идеалу красоты 5.
Итак, в паре персонажей Райский – Бабушка существуют отношения подобия (категоричность мнений, «своеобычность», «деспотизм») и различия (ориентация Бабушки на «консервативную» жизнь – неподвижность, устойчивость; устремленность Райского к переменчивости, текучести, «новизне»), создающие в интересующем нас ценностно-этическом аспекте эквивалентности: судьба – Божья / своя воля; жизнь – «общие» законы / индивидуальный опыт; существование – самоотдача и долженствование / эмоционально-эстетический протеизм. Вера становится тем посредником, который в свою очередь встраивается в этот семантический ритм ассимиляции – оппозиции.
Обретя в образе Веры новый образец красоты 6, Райский пытается постичь ее внутреннее содержание, но «нравственная фигура Веры оставалась для него еще в тени» (Т. 5. С. 303). Для Бабушки Вера иной раз «привередница, дикарка!» (Т. 5. С. 305), что сближает ее в какой-то мере со «своеобычным» троюродным братом.
Райский хочет «обратить Веру к жизни» (Т. 6. С. 35), девушка же видит в этом желании посягательство на ее свободу: «…я и дружбы его боюсь» (Т. 5. С. 46). И для Веры, и для Райского жизнь все-таки представляет собой самостоятельный поиск. Этим Вера отличается от послушной воле Бабушки Марфеньки, да и от самой Бабушки, хоть и обремененной давнишним «грехом». Райский становится для Веры таким же «деспотом», каким для самого Райского была Татьяна Марковна. Сделав незадачливому эмансипатору полупризнание в том, что она неравнодушна к некоему человеку, Вера с возмущением наблюдает за его реакцией: «Вы не только эгоист, но вы и деспот, брат <…> рыцарь свободы – стыдитесь!» (Т. 6. С. 63). Парадоксально – «рыцарь свободы» превращается в деспота, однако это вызвано разным представлением собеседников о сущности свободы.
Для Райского свобода заключается в жизнетворчестве, что многократно подтверждается в процессе развертывания системной целостности произведения, а в финале формульно закрепляется в эпиграфе к его так и не написанному, но пережитому роману: «И что за поддельную боль я считал, / То боль оказалась живая – / О Боже, я раненный насмерть – играл, / Гладиатора смерть представляя!» (Т. 6. С. 411).
Свобода Веры выражается в «самостоятельной и гордой воле» («Намерения, задачи и идеи романа “Обрыв”») (Т. 6, С. 463). Отсюда и «аллегория» Райского про «ключи» от внутреннего мира героини: «Но, открыв на минуту заветную дверь, она вдруг своенравно захлопнула ее и неожиданно исчезла, увезя с собой ключи от всех тайн: и от своего характера, и от своей любви, и от всей сферы своих понятий, чувств, от всей жизни, которою живет – все увезла! Перед ним опять замкнутая дверь!» (Т. 6. C. 75). Заметим, что Вера маркируется «своенравием», так же как Райский – «своеобычием»: «ритм» характеров здесь совпадает. Векторы их свободолюбия, однако, как мы наблюдали, разнонаправлены.
Примиряет Райского с Верой нечто вроде литературных вечеров, затеянных Бабушкой в назидание старшей внучке. Обеспокоившись возможной влюбленностью Веры (на которую намекнул Райский), Бабушка устраивает чтение какой-то скучной книги высокоморального содержания. Утомление Веры и Райского от этого прослушивания обнаруживает сходство их эмоциональноэтических и эстетических установок. Знаковым именем в этом эпизоде становится добродетельная Кунигунда 7.
Содержание книги шаблонно-сентиментальное: «Длинный рассказ тянулся все о том, как разгорались чувства молодых людей и как родители усугубляли над ними надзор, придумывали нравственные истязания, чтоб разлучить их» (Т. 6. С. 117). Мар-фенька слушает со слезами, Вера хмурится (Там же), Райский обычно покидает чтения. Наконец, Бабушке кажется, что Вера сопереживает героям бесконечной романической истории: «Драма гонений была в самом разгаре, родительские увещания, в длиннейших и нестерпимо скучных сентенциях, гремели над головой любящихся.
– Замечай за Верой, – шепнула бабушка Райскому, как она слушает! История попадает – не в бровь, а прямо в глаз» (Т. 6. С. 118). Кончается в книге все печально: влюбленных разлучают, герой навсегда покидает Европу, а героиня удаляется в монастырь. Райский комментирует все прослушанное: «Экая дичь!» (Т. 6. С. 119). Вера также возмущается: «Бабушка! за что вы мучили меня целую неделю, заставивши слушать такую глупую книгу?»; «А если б я провинилась <…> – вы заперли бы меня в монастырь, как Кунигунду?» (Т. 6. С. 119).
И для Райского, эстетизирующего страсти, и для Веры, переживающей испытание страстью к Волохову, книга «глупа», далека от жизни. Благонравной Кунигундой оказалась, как и следовало ожидать, искренне переживавшая за героев прочитанного романа Марфенька: «Добро бы Вера, а то Марфенька, как Кунигунда… тоже в саду!.. Точно на смех вышло: это “судьба” забавляется!..» – сетует Татьяна Марковна (Т. 6. С. 129). Судьба опять настигает не того, кому предназначалось чтение. Бабушка бессильна остановить Веру 8.
Когда изменившаяся после искушения «оврагом» Вера бесшумно появляется перед Райским, он восклицает: «Это бабушкина “судьба” посылает тебя ко мне!..» (Т. 6. С. 362). Действительно, Вера признает правоту Бабушки, ее смирение перед «судьбою» и сопряженный с ним народно-христианский кодекс жизни: «Стало быть, ей, Вере, надо быть бабушкой в свою очередь, отдать всю жизнь другим, и путем долга, нескончаемых жертв и труда, начать “новую” жизнь, не похожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва… любить людей, правду, добро…» (Т. 6. С. 339). Но и Райскому «не даром… обошлись эти полгода» (Т. 6. С. 412) – и он, добыв «ключ от прошлого, от всей жизни бабушки», преклоняется перед ее правдой: «Ему ясно все: отчего она такая? Откуда эта нравственная сила, <…> знание жизни, сердца? <…> Образ старухи встал перед ним во всей полноте» (Т. 6. С. 405, 406).
Так постепенно, в христианской парадигме, у всех трех главных персонажей романа «Обрыв» сходятся воззрения на существование и судьбу – как испытание и последующее смирение. Вновь возникающий и ассоциированный со значением судьбы-существования мотив «ключа» к познанию человека, на наш взгляд, подтверждает важность исследуемого ряда ценностноэтических эквивалентностей в художественной архитектонике романа И. А. Гончарова «Обрыв».
RAYSKY , GRANDMOTHER , VERA
Список литературы Ценностно-этические эквивалентности в поэтике романа И. А. Гончарова "Обрыв": Райский, Бабушка, Вера
- Гейро Л. С. «Сообразно времени и обстоятельствам…» (Творческая история романа «Обрыв») // Литературное наследство. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. Т. 102. С. 83-175.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006. Т. 4. 1144 с.
- Шмид В. Проза как поэзия: Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998. 352 с.
- Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 193-230.