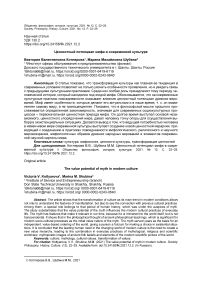Ценностный потенциал мифа в современной культуре
Автор: Виктория Валентиновна Котлярова, Марина Михайловна Шубина
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье показано, что трансформация культуры как главная ее тенденция в современных условиях позволяет не только уяснить особенности проявления, но и увидеть связь с предыдущими культурными практиками. Среди них особая роль принадлежит тому периоду человеческой истории, который находился под эгидой мифа. Обосновывается, что на современные культурные практики повседневности оказывает влияние ценностный потенциал древних верований. Миф имеет особенности, которые делают его актуальным и в наше время, т. к. он имманентен самому миру, а не трансцендентен. Показано, что в философской мысли прошлого прослеживается определенная закономерность, значимая для современных социокультурных процессов – первоначальная ценностная природа мифа. Он долгое время выступал основой независимого, ценностного упорядочения мира, давал человеку точку опоры для осуществления выбора в экзистенциальных ситуациях. Делается вывод о том, что ведущей потребностью человека в изменчивом мире современной культуры выступает создание новой ценностной иерархии, приводящей к соединению в практиках повседневности мифологического, религиозного и научного мировоззрения, мифопоэтичных образов древних народных верований и элементов современной научной картины мира.
Культура, мифология, ценности культуры, трансформация ценностей
Короткий адрес: https://sciup.org/149138807
IDR: 149138807 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2021.12.2
Текст научной статьи Ценностный потенциал мифа в современной культуре
Донского государственного технического университета в г. Шахты, Шахты, Россия , ,
Современный человек попадает в мир технократического бытия, где духовные возможности теряют фундаментальное значение и самодостаточность. Отныне самоценность духовности определяется лишь целями и ценностями технологического развития общества. Мы являемся свидетелями невиданной глубины и фундаментальности трансформационных мировых исторических процессов и макроцивилизационных преобразований. В современности приобретают реальные очертания идеи о конце истории, о возрастании техногенных угроз, исчерпаемости природных ресурсов, варваризации культуры, источники которых состоят прежде всего в ограниченности существующей ценностной парадигмы как духовного плана или идеи, системоорганизующей и направляющей развитие человечества.
Современная культура характеризуется интенсивными трансформационными процессами, которые тем не менее лишь утверждают связь инноваций с культурными практиками прошлого. Именно в древних философских учениях возникают и первые научные представления, и первые обоснованные системы ценностей, неразрывным образом связанные с космоцентрично-мифоло-гической картиной мироздания.
Ф.В. Шеллинг рассматривал миф как одну из форм синтетического постижения действительности, как этап в становлении самосознания культуры (Шеллинг, 2013). Э. Кассирер – как объективацию социального опыта (Кассирер, 2002б). Х. Блюменберг понимал миф как первоначальную творческую активность человека по преобразованию неизвестной среды (Blumenberg, 1960), а Б. Малиновский – как неотъемлемую часть культуры, как нечто, что рождается снова и снова (Малиновский, 1998). Наконец, К. Хюбнер отмечал нуминозный характер мифа (Хюбнер, 1996).
Продолжая традицию исследования мифа, согласно которой он понимался как фундаментальная основа культуры в контексте изучения вопросов, связанных с аксиологическими и концептуальными трансформациями культуры, мы полагаем, что на современные культурные практики повседневности оказывает влияние ценностный потенциал мифа.
Основанием для вопроса о смысле древних верований в современной культуре выступает далеко не однозначная оценка мифологии, ее роли и значения в духовной жизни человечества, что мы видим в трудах исследователей. «Что значит жить с мифом и что такое жить без него – спрашивает самый авторитетный среди теоретиков мифа XX века К.-Г. Юнг и отвечает: «Человек, который думает, что может прожить без мифа или за пределами его, выпадает из нормы» (Юнг, 1998: 207). Еще один известный мифолог, Э. Кассирер, констатирует, что еще во времена романтиков миф был признан «необходимым фактором, неотъемлемым элементом развития человеческой культуры» (Кассирер, 1999).
Мифологическое знание представляет собой продукт герменевтического действия – интерпретацию того или иного аспекта реальности в рамках мифологической картины мира и собственных сознательных действий субъекта в обществе относительно этой картины мира. Действия последнего включают в себя особое состояние психики, отношения к миру и окружающим, специфическую интерпретацию субъективного опыта (например, миф, по нашему мнению, можно рассматривать как дорефлексивное понимание мира, упорядочение неохваченного бытия на основе образного мышления, что, собственно, представляет собой комплекс перечисленных компонентов, которые входят в действия субъекта). Все эти типы знания важны для человека, поскольку влияют на социальные, ценностные, целевые, экзистенциальные, праксеологические его характеристики и на общество в целом, а также представляют собой элементы целостного культурно-исторического комплекса, в котором они возникают, существуют и исчезают.
Реанимация мифологического потенциала в эпоху рационализма и технократизма кажется странной и парадоксальной. Как отмечает современный исследователь Л.Ю. Ларина, «скорее следовало бы предположить, что в мире, где главным ориентиром объяснения и понимания является наука, мифам уже не может быть места. Однако на самом деле это не так. Более того, начиная с конца ХХ века, в философии науки и техники заговорили об активном процессе ремифологизации» (Ларина, 2021: 42). В современной постмодернистской парадигме миф и мифология стали рассматриваться в позитивном значении. Такой взгляд противоречит бывшему, характерному для эпохи модерна подходу. В рамках последнего мифы ассоциировались с примитивной, дологичной, «отжившей» формой культуры человечества.
Миф имеет особенности, которые делают его актуальным и в наше время, а именно: он обладает объяснительной силой. Это происходит потому, что миф черпает свои принципы из самой реальности, то есть он имманентен самому миру, а не трансцендентен, как, например, догмы религии. В то же время миф обладает смыслообразованием. В настоящее время он, проникая как в науку, так и в религию, существенно их изменяет. Однако для нас интересен вопрос не о возможной реанимации мифологии как ведущего общественного способа мировоззренческого системоутверждения, а о ее ценностном потенциале, и именно с этих позиций целесообразно еще раз проанализировать мифологию как исторический тип мировоззрения.
Древнейшие из известных нам представлений о мире в целом имели эмоционально-художественную форму. Согласно Э. Кассиреру, ценностная дифференциация мира берет свое начало еще в первоначальном мифологическом сознании. Именно миф впервые предоставляет нерасчлененности индифферентной реальности определенные дифференциации, разделяя ее на разнокачественные области значений. В дальнейшем на этом основании становится возможным все более отчетливое разветвление путей культурного развития. Вообще историю саморазвития и самопознания человека можно рассматривать, по мнению Э. Кассирера, как постоянную переоценку ценностей, наглядную в перманентном аксиологическом сомнении, неудовлетворенную реальностью бытия (Кассирер, 2002б: 26).
Философия древнего мира в своей предметной направленности особенно ценна в создании концепций универсального и гармоничного саморазвития и самосовершенствования человеческой субъектности. Именно тогда создаются и начинают утверждаться основные составляющие элементы мировоззрения, знаменующие начало перехода от мифологического к философско-научному осмыслению вопросов человеческого бытия.
Экскурс в историю древнеиндийской философии ведического периода (примерно середина II тыс. до н. э. – середина I тыс. до н. э.), позволяет отметить, что уже в ряде гимнов «Ригведы» (в том числе 82 гимн Х книги) религиозно-космогоническая тематика, несущая в себе, по мнению ряда ученых, аспекты научного знания, проникнута человекоориентированностью и человекораз-мерностью в основных вопросах (Бонгард-Левин, 1980).
Ценностно-смысловой характеристикой существования субъекта в Древней Индии являлось стремление к самосовершенствованию в направлении надлежащего, являющееся единственным путем к полной реализации потенциала человека, в том числе и знаниевого. Первостепенное значение здесь имеет культ индивидуального спасения, поиск духовной реализации, слияние с мировым разумом и достижение нирваны. Индийская духовная традиция формировалась под влиянием автохтонных религий – индуизма и буддизма, а также тех норм поведения, которые были заданы древнеиндийским эпосом, прежде всего «Махабхаратой» и «Рамаяной», поэтому установка на освобождение от сансары, от власти материи с помощью техники медитации формировала такие ценности, как самосовершенствование, любовь, пацифизм, непричинение вреда живому, аскетизм. Видимо, неслучайно в наше время растет интерес к индийской культуре, потому что в условиях кризиса европейской техногенной цивилизации ценности древнеиндийской традиции приобретают особое звучание.
В исследованиях С. Чаттерджи и Т. Датта отмечается, что для многих школ древнеиндийской философии характерен именно этот одновременный акцент на проблеме синкретического познания, возможностей постижения человеком и мира, и себя, что, на наш взгляд, свидетельствует о неразрывности форм донаучного познания и ценностных установок (Чаттерджи, Датта, 1994: 74–75).
Ценность жизни в Древнем Китае виделась как проявление значимости природного, стихийного существования мира и человека, и именно поэтому спокойствие не может быть идеальным состоянием существования личности и социума. Противоречия во взглядах на ценности находим уже в конфуцианской философии, где за первооснову существования индивида берутся нравственные ценности, которые должны помочь человеку в гармоничном единении с социальным организмом (Баева, 2004). Легизм в лице Шань-Яна вообще заменяет симметрию «благородного мужа» и добродетели принципами строгой регуляции и наказания.
Всесторонне рассматривая начальные основы системы даосизма периода VI–III вв. до н. э., возможно выявить отличия антропологических и этических тенденций последнего не только от конфуцианства, но и от легизма, а также от древнеиндийских представлений. Даосы отклонили социальную этику конфуцианства вместе с положениями человеколюбия, справедливости, родительской любви и тому подобным. Если конфуцианство предлагало иерархический морализм на основе человеколюбия, то в идеале даосов управление осуществлось по принципу «социального спокойствия» (у-вэй). Даосский мудрец не стремился делать добрые дела, он подобен «дао», который не имеет имени, его центральное имманентное свойство – победное недеяние (у-вэй) и покой (Григорьева, 1992: 122).
Вместе с тем философское учение даосизма несет в себе не только ценностный, но и огромный научный потенциал. Вполне вероятно, что с данным суждением возможно дискутировать. Однако обратимся к одному из величайших ученых современности – Вернеру Гейзенбергу, полагающему, что отличные системы мышления «могли принадлежать к совершенно различным эпохам, религиозным и культурным традициям и областям знания; поэтому если они действительно взаимодействовали, то есть имели столько общего, что стало возможным их подлинное взаимодействие, от этого можно было ожидать новых и интересных событий» (Heisenberg, 1958).
В философской мысли Древней Греции прослеживается та же закономерность, что и в учениях других древних цивилизаций: синкретизм сознания, его первоначальная ценностная природа. Традиционно считалось, что синкретизм является недостатком мировоззрения, а знание, наполненное ценностными значениями, - несовершенно, что только дифференциация ценностей и знания приводит к быстрому развитию духовности и т. д.
В современной философии, наоборот, особенно значимым является вопрос о восстановлении утраченной целостности, о необходимости компенсировать когда-то исторически оправданную специализацию мышления. Это отмечает М. Хайдеггер в своем «Письме о гуманизме», демонстрируя чувство ностальгии по органической целостности элементов логики, физики и этики античной философии. Он считает, что указанные отрасли возникают в эпоху, когда мнение превращается в «философию», философия - в науку (episteme), а наука - в дело школьного обучения. В этой цепочке возникает наука, но теряется мысль. «Мыслители этой эпохи не знают ни какой-то отдельной “логики”, ни какой-то отдельной “этики”, ни “физики”. Между тем их мысль есть и не алогичная, и не аморальная. А “фюсис” продумывается ими с такой глубиной и широтой, которых позднее “физика” уже достичь не могла» (Хайдеггер, 1988: 348).
Впрочем, наш интерес к произведениям античных философов вызван не только выделением науки в особую сферу духовной деятельности. Очень важен практикуемый ими методологический подход к осмыслению знания как неотъемлемой составляющей бытия человека, его целей, ценностей, добродетелей. Недаром Сократ первым провозгласил, что добродетель есть знание. Этот тезис имеет несколько следствий: во-первых, теперь знание, а не традиция или авторитет, является мерилом нравственности человека; во-вторых, опираясь на разум, человек должен сознательно и ответственно относиться к собственной жизни; в -третьих, человек может выработать, сформировать и поддерживать свою систему ценностей, моральный кодекс, с точки зрения которого он будет все оценивать в жизни. В этом и заключалась та мировоззренческая революция, которую констатировал Сократ. Так впервые в философии заявила о себе ценностная проблематика. Мир человеческого сознания раскололся на два плана: идеальный и материальный. А проблема ценностей навсегда соединилась с миром духовности и идеальным измерением бытия.
Современный антропологический поворот науки обеспечил возможность по-иному рассмотреть фундаментальные проблемы современной культуры, в том числе проблему формирования ценностей. И немаловажную роль в данном процессе может играть мифологизация, под которой мы, соглашаясь с А.Г. Ивановым, понимаем «процесс наделения мифологической образностью и символикой аспектов действительности (социальной, художественной) любого модуса времени, осуществляемый как отдельным индивидом, так и социальными группами, обществом в целом, состоящий из нескольких стадий и способный оказывать влияние на развитие человека и общества» (Иванов, 2020: 27-28).
По мнению Э. Кассирера, миф, религия и наука имеют автономные измерения; это не просто этапы развития человеческой культуры - каждая из этих сфер существует одновременно с другими в любом историческом периоде, однако на определенном временном отрезке доминирует лишь одна из них, в то время как остальные находятся хотя и в действенной, но все же подчиненной позиции. Смысл форм выражения в культуре заключается не в отражении реальности, а в ее преобразовании; символ - универсальный код культурной динамики, зная который, мы можем прийти к единому пониманию культуры, не упуская неповторимости каждой из ее составляющих; и, наконец, миф - это исходная и фундаментальная форма отношения человека к миру, поскольку в ней мир переживается непосредственно, аффективно-эмоционально, и поэтому не может быть преодолен ни научным отношением к действительности, ни каким-либо другим (Кассирер, 2002а).
Тысячи лет формировалась реальность мифа, определявшая содержание культурной адаптации многих поколений. Постоянно воспроизводились ситуации, в которых миф оправдывал искания и смысл жизни людей. Именно эти ситуации позволили человеку поместить себя в контекст особой смысловой реальности. И в этом проявляется потенциал мифа, его высших истин, которые, безусловно, важнее соответствия реальности. Подобные обстоятельства объясняют, почему любой миф противоречит каким-либо фактам и событиям. Он дарит человеку нечто чрезвычайно ценное, более значимое, чем знание, - смысл существования.
Миф долгое время выступал основой независимого, ценностного упорядочения мира, то есть осознавался как иллюзорная конструкция сознания, дающая человеку точки опоры для осуществления выбора в экзистенциальных ситуациях. По мнению Э.А. Коблевой, «мифология часто используется как усилитель ценностей. Миф позволяет заострять тот или иной аспект ценности, гиперболизировать ее, а следовательно, подчеркивать» (Коблева, 2009: 69). Будучи смыслоформи- рующей реальностью человека, он предлагает такую встречу человека с миром, в которой последний выступает не как объективная реальность, а как сфера творческой самореализации личности. Будучи «человеческим» взглядом на мир, миф создает синкретическую картину этого мира и при необходимости включает в нее человека как неотъемлемый элемент (Tychkin, 2015).
Что касается ситуации, в которой находимся мы в третьем тысячелетии, то она, по определению многих современных исследователей, обозначена всевозрастающей ролью, которую играет миф в сознании современного человека, «очарованностью коллективного сознания идеей “новой мифологии”» (Менжулин, 1996: 4). И это понятно, если учесть переходный характер нашей эпохи. Казалось, еще вчера Э. Тоффлер (2009) и Д. Белл (2004) предвещали приход постиндустриального информационного общества на смену индустриальному, а сегодня все чаще раздаются голоса о том, что и информационное общество уже пережило пик своего развития, и, пожалуй, недалек тот час, когда оно вынуждено будет уступить место посткомпьютерной цивилизации психотехнологий, исследование наступления которой неминуемо приводит к мысли о взаимосвязи пси-технологий с древнейшими мифологическими представлениями (Матанцев, 2021).
Как отмечается в ряде исследований, «современная культура характеризуется кардинальными трансформациями во всех сферах человеческой жизни. Главным производителем реальности в ней становится пространство виртуальности, созданное новыми информационными технологиями» (Котлярова и др., 2016: 107). И эта новая реальность трансформируется так быстро, что культура не успевает за ней, оказываясь в «шоковой ситуации». И вот тогда, когда это все вдруг теряет свой привычный смысл и ценность, и возникает ситуация, порождающая мифы в повседневной жизни.
Если провести параллель, приняв, что мы находимся на этапе завершения очередной парадигмы аксиологии (Котлярова, 2014), то можно ожидать, что в скором времени начнут возникать попытки реставрации разных форм ценностных отношений как следствие обострения противоречия между данным типом отношения к миру и самой реальностью. Причиной их может стать и недовольство теми смысловыми и ценностными ориентирами, которые сейчас господствуют. Попытки реставрации мифологии в повседневных практиках культуры могут рассматриваться как способ защиты сознания от манипулятивных техник, восполнения потребности в новой ценностной иерархии (Котлярова, Руденко, 2017). Такое положение дел ведет к отказу от научного мировоззрения или к попытке соединить его с мифологическим и религиозным: сосуществуют мифопоэтичные образы древних народных верований и элементы современной научной картины мира. Результатом таких процессов стали такие направления человеческой мысли, как криптозоология, криптоботаника, уфология, идеи реинкарнации, различные «сенсационные исследования» экстрасенсорики, ведический креационизм и т. п. Примером подобного также является так называемая «теория» о существовании двойника Земли, который движется вокруг Солнца одновременно с ней (Кругляков, 2009). Интересно, что астрология и эзотерика поддержали такую теорию, игнорируя законы небесной механики и данные астрономических наблюдений.
Полная реставрация мифологического мышления (именно так, как его понимали в древности или как понимают сегодня в псевдонаучных исследованиях) может произойти лишь в условиях радикальной общественной деградации, прежде всего, разрушения глобальных социальных связей с последующей сегментацией человечества на изолированные сообщества, утраты высоких технологий обеспечения материальных потребностей людей. Вследствие этого неизбежны и материальная нищета, и нивелирование морали, и обесценивание искусства в условиях жесткой борьбы за выживание, и радикальная дискредитация демократических форм осуществления политики, и рост подозрения к свободомыслию и вообще к теоретическому мышлению – вроде реальности из произведения «Обитаемый остров» братьев Стругацких.
Следовательно, миф, являя собой неотъемлемый компонент современной духовной жизни, с одной стороны, закладывает определенный фундамент культуры и влияет на ценностное восприятие мира субъектом; с другой стороны, он таит в себе опасность нравственного и интеллектуального обнищания культуры, духовной деградации человека. Опыт ХХ века с его самыми яркими мифами коммунизма и фашизма убедительно свидетельствует о справедливости сказанного. Именно поэтому выход из ситуации следует искать не в бесполезных попытках абсолютизировать роль любого компонента оппозиции: «темный разум» мифа – «чистый разум» науки. Более продуктивным является взгляд, опирающийся на осознание многоярусной структуры духовного мира, в пределах которого рациональное и иррациональное, мифологическое и научное занимают принадлежащее им место, выполняя функции, производительность которых определяется мерой компетенции каждой из них.
Преодоление любого (дихотомического) противостояния ведет к целостности человека – пониманию им себя на всех уровнях: физическом и духовном. Как верно отмечено известным исследователем мифов М. Элиаде, «мифы сохраняют и передают парадигмы – образцы, в подражание им осуществляется вся совокупность действий, за которые человек берет на себя ответственность» (Элиаде, 1987: 30). Только индивид, обладающий четко выверенной системой ценностей, способен осуществить обновление культуры, придав ей импульс для дальнейшего развития, но прежде всего – развития себя самого, чтобы подняться на вершину и стать совершенным.
Критика мифа устремляется не на уничтожение его. Рациональным путем это осуществить просто невозможно, поскольку в случае с мифом «cogito» теряет свои чрезвычайные полномочия. Мифология не наука, а «жизненное отношение к окружающему миру» (Лосев, 1991: 42). Миф не требует работы мысли, он не совместим с наукой, а потому и не может быть опровергнут научно. Принять научное объяснение мира – значит сделать мифическое одновременно излишним и откровенно ложным (Haviland, 1975: 82). Это отрезвляющий и трудный выбор, описанный в работе Роберта Сигала, гарантирующий выживание мифа в нашем современном мире (Segal, 2004).
Ведь и мифологический, и рациональный ярусы современной духовной жизни, по существу, не персонализируются. Различные способы переживания мира живут в одном и том же человеке, актуализируясь в зависимости от ситуации. Поэтому попытки искусственно демифологизировать экзистенциальный опыт индивида обедняют его внутренний духовный мир, равно как и абсолютизация мифологического сознания таит в себе угрозу снижения интеллектуального уровня и, соответственно, результативности жизнедеятельности человека.
Как оказалось, миф всегда сопровождал нас, но не был превосходящим фактором; он уступал монотеистической религии, а затем и науке. Антрополог Уильям Хэвиленд констатировал, что «концепции мировоззрения и науки тесно связаны, и можно сказать, что миф – это наука культур, которые не подтверждают “истину” о природе посредством эксперимента» (Haviland, 1975: 337). Он остается важной составной частью повседневности – той сферы, где поток жизни интуитивен и не требует постижения мыслью или укрепления верой. Благодаря технологиям, обыденность из частной сферы превратилась в сферу социальную, а значит, и миф вслед за ней перешел в социальное измерение. Но и этого недостаточно. Пределы фундаментальной науки, неспособность рациональности удовлетворить человека в поисках основ или утраченного ощущения мира, приводит к необходимости выработки новых типов мировоззрения, в которых воплотились бы искомые черты.
История знает примеры коэволюционного существования научных знаний, наполненных рационально, и мифологических представлений ценностно-интуитивного содержания. И это не только синкретизм пропедевтических философских учений древности, и не только открытие постнеклассической науки. Например, эпоха Возрождения показала, что экспериментальная наука может сосуществовать с магией, астрологией, алхимией, а неоплатонизм – быть тем мировоззрением, которое возвращает человеку гармонию отношений с природой и обществом, и реализовала это.
Таким образом, в современной культуре возникают различные эклектические и синкретические образования, в которых, по-разному комбинируясь, сочетаются религия, наука, искусство, политика и экономика, а также фантастика, мистика и т. д. Мифология – это один из способов понять и интерпретировать мир вокруг нас. Уступив место философии и науке, она не утратила своего важного места в истории человечества. Мифы придают смысл и цель всем элементам культуры, составляют основу культурной реальности, порождая наши убеждения и предположения, которые редко объясняются, однако формируют как структуру личности, так и ее культуру. Они проявляют себя в явной форме в ценностях, целях, стратегиях и философских принципах, которые мотивируют нас и формируют нашу реальность. Миф повседневности становится определяющим типом мировоззрения и на новом, цифровом этапе развития культуры. Нас, возможно, ждет новый тотемизм, новый Олимп, волшебная реальность загробных миров (виртуальная реальность в видеоиграх и дополнительная реальность в повседневности). Этот процесс уже идет.
Список литературы Ценностный потенциал мифа в современной культуре
- Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Астрахань, 2004. 279 с.
- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество : опыт социального прогнозирования. М., 2004. 786 с.
- Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. М., 1980. 333 с.
- Григорьева Т.П. Дао и логос (встреча культур). М., 1992. 424 с.
- Иванов А.Г. Мифологизированное прошлое как часть исторической памяти // Tempus et Memoria. 2020. Т. 1, № 1-2. С. 25–30. https://doi.org/10.15826/tetm.2020.1-2.002
- Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Политология. М., 1999. С. 579–588.
- Кассирер Э. Философия символических форм : в 3 т. М., 2002а. Т. 2. Мифологическое мышление. 280 с.
- Кассирер Э. Философия символических форм : в 3 т. СПб., 2002б. Т. 3: Феноменология познания. 398 с.
- Коблева Э.А. Значение мифа в современном социуме // Теория и практика общественного развития. 2009. № 1. С. 68–71.
- Котлярова В.В. Парадигмы аксиологии. Ростов н/Д., 2014. 226 с.
- Котлярова В.В., Руденко А.М. Воздействие средств массовой коммуникации на современное общество // Медиаобразование. 2017. № 3. С. 134–142.