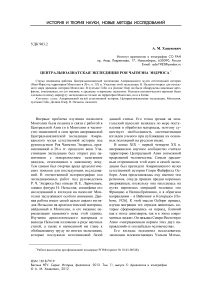Центральноазиатская экспедиция Роя Чапмэна Эндрюса
Автор: Хаценович Арина Михайловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований
Статья в выпуске: 5 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена работам Центральноазиатской экспедиции Американского музея естественной истории (Нью-Йорк) на территории Монголии в 20-х гг. XX в. Участник этой экспедиции Н. Нельсон открыл для остального мира древнюю историю Монголии. В пустыне Гоби и в Долине Озер им были обнаружены каменные артефакты, относящиеся, по его мнению, к среднему и верхнему палеолиту. Находки неолитического времени были сделаны по всему маршруту экспедиции не только на территории Монголии, но и в Китае.
Американский музей естественной истории, центральноазиатская экспедиция, монголия, пустыня гоби, долина озер, н. нельсон, палеолит
Короткий адрес: https://sciup.org/14737837
IDR: 14737837 | УДК: 903.2
Текст научной статьи Центральноазиатская экспедиция Роя Чапмэна Эндрюса
Впервые проблема изучения палеолита Монголии была поднята в связи с работой в Центральной Азии (и в Монголии в частности) знаменитой в свое время американской Центральноазиатской экспедиции Американского музея естественной истории под руководством Роя Чапмэна Эндрюса, организованной в 20-х гг. прошлого века. Участниками экспедиции был открыт ряд памятников с поверхностным залеганием находок, относящихся к каменному веку. Тем самым был очерчен ареал археологических поисков для последующих исследований. В отечественной историографии ход экспедиционных работ под руководством Р. Ч. Эндрюса был описан В. Е. Ларичевым, однако фигура Н. Нельсона, специфика его исследований и взглядов на палеолит Монголии заслуживают особого внимания. Данная работа имеет своей целью анализ взглядов Нельсона на археологический материал, найденный в Монголии, и его видение периодизации каменного века этой страны. Изучение археологического материала и выводы Нельсона изложены в ряде научных статей, а также в написанной им главе к обобщающему труду по итогам экспедиции, которые послужили источниковой базой данной статьи. Его точка зрения на монгольский палеолит менялась по мере поступления и обработки материала, поэтому существует необходимость систематизации взглядов ученого при публикации их основных положений на русском языке.
В конце XIX – первой четверти ХХ в. американское научное сообщество считало территорию Центральной Азии возможной прародиной человечества. Самым преданным сторонником этой идеи и самой экспедиции был президент Американского музея естественной истории Генри Файрфилд Осборн. Азия представлялась ему именно тем регионом, откуда пришли предки коренных американцев, поскольку она находилась на путях вероятных миграций человека «во Францию и Великобританию, и в обратном направлении – в Вайоминг и Колорадо» [Osborn, 1926]. К этой мысли Осборн пришел, изучая миграции тех отрядов животных, которые сформировались «в период, близкий как к эпохе динозавров, так и к эпохе современных видов». Он называл Северо-Восточную Азию «миграционным корнем этих двух направлений» и «колыбелью человечества».
Его взгляды подхватил исследователь эволюции млекопитающих Уильям Мэтью, который вскоре был принят Осборном в департамент палеонтологии музея. В его классической работе «Климат и эволюция» [Matthew, 1915] приводится гипотеза о миграции млекопитающих из Азии в отдаленные части планеты по существовавшим тогда сухопутным мостам – это Берингийский перешеек в Северную Америку и панамский Истмус в Южную Америку, а также по мостам из Европы в Африку и из Юго-Восточной Азии в Австралию. Как и Осборн, он полагал, что родина приматов и их человеческих потомков находится где-то в Азии, «возможно, в или около большого плато Центральной Азии» [Gallenkamp, 2001]. Более того, Центральная Азия, по представлениям Мэтью, являлась тем местом, где возникли первые цивилизации. Базисом этой идеи стало наличие цивилизаций-соседей: Халдеи, Малой Азии и Египта на западе, Индии на юге, Китая на востоке. Эти цивилизации пережили нашествия (которые Мэтью называет «инвазией», т. е. вторжением в организм паразитов или злокачественных клеток), которые исходили как раз откуда-то со стороны Монголии. Так или иначе, но теория Осборна – Мэтью стала именно той формой, в которую Р. Ч. Эндрюс облек свои взгляды – их и призвана была доказать Центральноазиатская экспедиция.
Нужно отметить, что Центральной Азии еще с конца XIX в. уделялось большое внимание исследователей, ведущих изыскания в различных областях науки – в геологии, палеонтологии, зоологии, географии, этнографии. Первым исследовал Центральную Азию (1871–1886 гг.) и открыл несколько видов животных Н. М. Пржевальский, затем состоялись пять экспедиций Г. Н. Потанина (1876–1899 гг.), две из которых проходили непосредственно по территории Монголии. Первая (монгольская) экспедиция Потанина прошла с участием натуралиста А. В. Адрианова, а вторая (китайско-тибетская) – с геологом и палеонтологом В. А. Обручевым. В 1891 г. состоялась «Орхонская экспедиция» под руководством тюрколога В. В. Радлова [Ларичев, 1968], а в 1924– 1926 гг. на территории Монголии производились раскопки хуннских могил МонголоТибетской экспедицией П. К. Козлова. Примечательно, что участники экспедиции Р. Ч. Эндрюса встречались с П. К. Козловым неоднократно, о чем Эндрюс оставил под- робные записи. Таким образом, Монголия ко времени старта Центральноазиатской экспедиции представляла собой оживленный научный плацдарм, однако ничто не говорило о присутствии здесь свидетельств существования древнего человека.
Несмотря на очевидную цель экспедиции – обнаружить следы пребывания древнего человека в Центральной Азии, изначально в ее составе археолога не было. На первом этапе исследований команда состояла из руководителя – зоолога Р. Ч. Эндрюса, геолога Ч. Берки, палеонтолога У. Грэйнджера, герпетолога (специалиста по рептилиям) К. Поупа, фотографа Дж. Шекелфорда, организаторов и работников экспедиции [Gallenkamp, 2001]. Несмотря на то, что официально экспедиция длилась 10 лет, непосредственно в поле работы проводились в течение пяти сезонов – 1922, 1923, 1925, 1927 и 1929 гг. Причиной этому послужили, по словам Эндрюса, «неспокойная политическая обстановка и гражданская война в Китае» [Andrews et al., 1932].
Наибольшего успеха экспедиция добилась в области палеонтологии и геологии. Тщательные исследования позволили геологам построить геологическую периодическую шкалу, определить изменения климата внутри периодов. До этого времени крайне фрагментарно была изучена фауна третичного периода в Индии, плиоцена и плейстоцена в Китае. Как шутил Эндрюс, «основная информация об этом бралась из китайских аптек, где ископаемые зубы и кости использовались в качестве снадобий» [Andrews et al., 1932]. Участники экспедиции собрали большую коллекцию остатков, характеризующую древний животный мир региона. Так, были найдены кости индрикотерия – самого крупного травоядного животного, когда-либо существовавшего, протоцера-топса, велоцераптора, удивительного животного из отряда Proboscidea платибелодо-на, кости и яйцекладки овираптора и пр. Открыто и названо в честь руководителя экспедиции, возможно, самое крупное хищное млекопитающее – эндрюсарх, который обитал в эоцене и, ведя хищный образ жизни, являлся примитивным копытным. В итоге Монголия дала богатейший материал для реконструкции фауны, обитавшей в различные геологические периоды.
Однако ожидания найти богатый археологический материал, позволяющий опре- делить Центральную Азию как древнюю Ойкумену и, тем более, колыбель человечества, первоначально не оправдались. Лишь во время второй экспедиции 1922–1923 гг. в ряде районов Гоби были обнаружены отдельности кремня и фрагменты керамики – в небольшом, но достаточном количестве, чтобы сделать выводы о присутствии здесь человека, по крайней мере, в позднем каменном веке [Nelson, 1926a]. Поэтому в состав экспедиции, начиная с 1925 г., был включен профессиональный археолог Нельс Нельсон.
Первая значительная находка была сделана экспедиционным фотографом Джоном Шекельфордом, когда в 60 см от дневной поверхности, в вертикальном обнажении овражной балки он обнаружил несколько ядрищ и отщепов, а также фрагменты керамики, отнесенные Нельсоном к эпохе неолита [Ibid.]. С этого момента стали поступать находки многочисленных продуктов расщепления камня из Гоби и Монгольского Алтая. Были обнаружены также места выхода сырья, в частности, в окрестностях озера Улан-Нор, где за счет денудационных процессов (выветривание) обнажились конкреции красной яшмы. Нельсон считал, что в древности, как и в настоящее время, человек избегал засушливых и безводных районов северной Гоби, проникая в сердце пустыни только на короткое время и в самые благоприятные климатические периоды, преследуя охотничью добычу [Berkey, Nelson, 1926]. В то время у Нельсона не было другого выбора, как использовать периоди-зационную шкалу археологических эпох палеолита, разработанную на основе изучения материалов каменного века Европы. В целом он выделил шесть «культурных слоев» в пустыне Гоби и в Долине Озер, пять из которых, по его мнению, безусловно, относятся к «доисторическим» [Ibid.].
Первый период Нельсон назвал «эолитом». Все относящиеся к нему находки происходят из окрестностей озера Орок-Нор (Долина Озер). Здесь на останцах высоких террас, сложенных четвертичными галечниками, была собрана обширная коллекция дефлированных отщепов с ретушью, расколотых галек и грубых скребел. Нельсон отмечал, что расщепление имело не мустьер-ский характер [Ibid.].
Второй период назван Нельсоном «верхним палеолитом». Материалы этого времени также были обнаружены в Долине Озер недалеко от озера Орок-Нор. Причем Нельсон отмечал, что верхнепалеолитические артефакты происходят с тех же поверхностей, что и предметы, относящиеся к эпохе «эолитов». К вероятным верхнепалеолитическим памятникам он отнес местонахождение между озером Улан-Нор и горами Арц-Богдо. Однако здесь существует проблема дифференциации ранних и поздних комплексов. К наиболее ранним формам, по мнению Нельсона, относятся вытянутые отщепы, чопперы и боковые скребла, сделанные из отщепов, напоминающие мусть-ерские из Западной Европы [Berkey, Nelson, 1926; Nelson, 1926б]. Сборы с поверхности дали богатый подъемный материал в виде скребков, которые Нельсон определил как ориньякские и мадленского облика, а по возрасту – «древние», что он заключил на основании сильной дефлированности находок [Nelson, 1926б]. Кроме того, было собрано большое количество незавершенных и не поддающихся описанию форм [Berkey, Nelson, 1926]. На южных склонах Арц-Богдо найдены изделия из халцедона, которые были отнесены Нельсоном к верхнему палеолиту.
Третий период археологического прошлого Монголии Нельсон отнес к мезолиту, а четвертый – к неолиту. Материалы, относящиеся к этим эпохам, были обнаружены как на просторах пустыни Гоби, так и в горах Гобийского Алтая. Наиболее многочисленными и интересными оказались находки в красных песчаниках Шабарак-Усу (современное название этого места – Баян-Цзаг). Котловина Шабарак-Усу (Пылающие скалы) находится в Гобийском Алтае, недалеко от хребта Гурван-Сайхан [Ларичев, 1971]. Поверхностные сборы, проведенные участниками экспедиции в этом месте, дали богатейший неолитический и более поздний материал. Кроме того, в котловине Шаба-рак-Усу были заложены шурфы, в которых обнаружились бескерамические слои. Их Нельсон отнес к мезолиту. Песчанистые отложения, в которых залегали остатки культуры «Обитателей барханов», были названы геологами Берки и Моррисом Шабаракской формацией. Она сложена озерными, аллювиальными и эоловыми отложениями, а обрывы Шабарак-Усу были образованы древним руслом реки. Культурные слои, по описаниям Нельсона, залегали «в непосред- ственном соседстве друг с другом» [Andrews et al., 1932]. Специфический облик мезолитической культуры он определил как близкий азильской индустрии Западной Европы. Коллекция каменных артефактов в основном была представлена продуктами первичного расщепления. Ядрища Нельсон разделил на два типа.
К первому относились небольшие, «с несколькими поверхностями скалывания, заостренные и сферические» нуклеусы, с которых получали отщепы различной формы – широкие заостренные или подтреугольные, без ретуши. Ядрища этого типа, исходя из описаний Нельсона, напоминают леваллуаз-ские или радиальные формы. Нуклеусы второго типа были также небольшими, подпрямоугольной, цилиндрической формы или конусовидные, с них, очевидно, получали небольшие отщепы, по форме удлиненные, призматические, слаборетушированные или неретушированные совсем. Нельсон определил технику получения заготовок на стоянке как отжимную. На памятнике были найдены немногочисленные отбойники округлой формы, которые могут быть косвенным подтверждением применения ударной техники древними обитателями дюнного поселения. Орудийный инвентарь представлен перфораторами, ретушированными от-щепами, большим количеством небольших скребков, иногда двулезвийных, напоминающих, по словам Нельсона, азильские [Ibid.]. Искусство было представлено дисковидными бусинами из скорлупы яиц ископаемого страуса (Struthiolithus) и динозавра во всех стадиях их изготовления – от грубых угловатых фрагментов до просверленных и орнаментированных экземпляров, среди которых законченных форм мало.
В окрестностях озера Холоболчи-Нор был обнаружен археологический материал, который относился к финальной стадии палеолита. Он включал в себя «чопперы или большие скребла, удлиненные отщепы му-стьерского типа и ориньякоидные двулезвийные скребки» [Ibid.]. По мнению геологов экспедиции, хотя артефакты не были найдены непосредственно в слое плейстоценовых отложений, есть серьезные основания предполагать, что они оказались изъятыми из контекста посредством выветривания, поскольку эти отложения были подвержены эрозии, начиная с середины плейстоцена. В этом же регионе, между Ца- ган-Нор и Орок-Нор, произведены поверхностные сборы, большую часть которых Нельсон забраковал как эолит. Он сетовал на то, что «верблюды ногами могут делать куда лучшие артефакты, чем люди руками» [Andrews, 1926]. Тем не менее некоторые из находок оказались действительно результатом расщепления и были отнесены к мустье, что делает их наиболее древними из всего собранного материала. Незначительные сборы были сделаны в районе Ула-Усу.
Дальнейшие изыскания Н. Нельсон проводил на территории Китая, однако они были недолгими. Он был огорчен тем, что ранний палеолит так и не был найден, и успех, которого достигла иезуитская экспедиция в Ордосе и который подстегивал Нельсона к новым поискам в Центральной Азии все это время, к нему самому так и не пришел. Поэтому он отказался от дальнейшего участия в экспедиции Эндрюса, и вместо него к ней в 1928 г. присоединился археолог А. Понд – молодой специалист по древней истории Европы, недавно вернувшийся из экспедиции, изучавшей в 1925–1926 гг. свидетельства существования примитивного человека в Северной Африке. В лагере Хоспитэл Кэмп Понд заметил, что один из монгольских охотников использует в качестве бойка для кремневого ружья каменное скребло. К северу от лагеря он обнаружил массу подъемного материала (к сожалению, нет информации, к какому времени он относится). Однако А. Понд в основном работал на территории Внутренней Монголии, где им был найден неолит у Уртын-Обо, Тайрам-Нор и Долон-Нор. На Гошо-Ин-Суму он обнаружил каменные артефакты, залегающие в одном слое с костями. На основе этих и ряда других сборов участники экспедиции к концу 1928 г. пришли к выводу, что найденные ими наиболее ранние артефакты относятся к мезолиту, однако ничем не напоминают азильские предметы. Тогда впервые был поставлен вопрос об особом, гобийском типе мезолита и неолита, где использовалось любое сырье, которое попадалось под руку: кварцит, кремень, халцедон, яшма, вулканический туф [Andrews et al., 1932].
Подводя итоги работы экспедиции в 1925 г., Нельсон говорил о том, что на территории от озера Орок-Нор до небольшого озерного края к северу от Калгана (сейчас г. Чжанцзякоу, Китай) была собрана богатейшая коллекция археологического мате- риала. В Долине Озер и в Гоби обнаружено около 200 тыс. артефактов, 50 тыс. из которых были отправлены в США [Nelson, 1939]. Регион Гоби в древние времена был заселен плотнее, нежели сейчас, на протяжении длительного времени и беспрерывно, что дает возможность проследить переход от верхнего палеолита к неолиту. Все это, по словам Нельсона, открывает широкие перспективы для дальнейшего изучения древнейшего прошлого Монголии.
До 50-х гг. публикации материала Нельсона являлись основными сведениями по палеолиту и мезолиту Монголии. Периодизация, предложенная им для каменного века этой территории, использовалась исследователями в дальнейшем, дорабатывалась и дополнялась. Н. Нельсон стал первым археологом, кто собрал значительные коллекции каменных изделий в Монголии и предпринял попытку их технико-типологического анализа. Открытые им памятники исследовались в дальнейшем участниками русско-монгольских и венгеро-монгольских экспедиций.