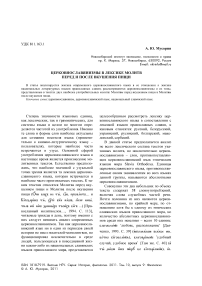Церковнославянизмы в лексике молитв перед и после вкушения пищи
Автор: Мусорин Алексей Юрьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.10, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется лексика современного церковнославянского языка в ее отношении к лексике национальных литературных языков православных славян; рассматриваются церковнославянизмы и их типы, представленные в текстах двух наиболее употребительных молитв: Молитвы перед вкушением пищи и Молитвы после вкушения пищи.
Церковнославянизм, церковнославянский язык, национальный славянский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14737609
IDR: 14737609 | УДК: 811.163.1
Текст научной статьи Церковнославянизмы в лексике молитв перед и после вкушения пищи
Степень значимости языковых единиц, как лексических, так и грамматических, для системы языка в целом во многом определяется частотой их употребления. Именно те слова и формы слов наиболее актуальны для сознания носителя языка (применительно к книжно-литургическому языку – пользователя), которые наиболее часто встречаются в узусе. Основной сферой употребления церковнославянского языка в настоящее время является произнесение молитвенных текстов. Естественно предположить, что наиболее значимой с узуальной точки зрения является та лексика церковно- славянского языка, которая встречается в наиболее часто произносимых текстах. К таким текстам относятся Молитва перед вку- шением пищи и Молитва после вкушения
( O
пищи
чи всехъ на тz2,
гDи, uпова1ютъ … и
Бlгодари1мъ
тz2, хrте2 б9е на1шъ, я4кw насы1- тилъ еси2 на1съ земны1хъ твои1хъ бlгъ …) [Православный молитвослов…, 1994. С. 113], читаемые трижды в день, поэтому именно с них следует начинать анализ современных церковнославянизмов. Так как церковнославянский язык ни в один из периодов своей истории не имел носителей-монолингвов, но функционировал исключительно в среде людей, пользующихся в повседневной жизни каким-либо из национальных славянских языков православного мира, представляется целесообразным рассмотреть лексику церковнославянского языка в сопоставлении с лексикой языков православных славян, к каковым относятся: русский, белорусский, украинский, русинский, болгарский, македонский, сербский.
В данной статье предполагается анализ не всего лексического состава текстов указанных молитв, но исключительно церковнославянизмов – слов, противопоставляющих церковнославянский язык этническим языкам мира Slavia Orthodoxa. Единицы церковнославянского языка, противопоставленные своим эквивалентам во всех языках данной группы, называются абсолютными церковнославянизмами.
Совокупно эти два небольших по объему текста содержат 58 словоупотреблений, включая слова служебных частей речи. Почти половина из них являются церковнославянизмами, по крайней мере, по отношению хотя бы к одному из этнических славянских языков православного мира, но количество абсолютных церковнославянизмов среди них невелико – всего 10 единиц: благоволе1ніе ‘любовь, расположение’ [Дьяченко, 1993. С. 39] ( и3сполнz1еши всz1кое жи-во1тно бл7говоле1ніz ) , благовре1меніе ‘ удобный случай, удобное время ’ [Там же. С. 40] ( и3 ты2 дае1ши и4мъ пи1щу во бл7говре1меніи ) , и3с-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 9: Филология © А. Ю. Мусорин, 2011
полнz1ти ‘наполнять, насыщать’ [Дьяченко, 1993. С. 228] (и3 и3сполнz1еши всz1кое живо1тно бл7говоле1ніz), tверза1ти ‘отворять, открывать’ [Свирелин, 2005. С. 112] (tверза1еши ты2 ще1друю руку твою2), посредэ2 ‘между или в’ [Дьяченко, 1993. С. 463] (посредэ2 u3ч7нкw1въ твои1хъ), u3пова1ти ‘убеждать, склонять, возбуждать, следовать, повиноваться, уповать, надеяться 1’ [Там же. С. 758] (o4чи всэ1хъ на тz2, гдcи, u3пова1ютъ), царствіе ‘царство’ (не лиши2 на1съ и3 нбcнагw твоегw2 црcтвіz), я4кw (я4кw посредэ2 u3ч7нкw1въ прише1лъ е4си,2 сп7се), даz1ти ‘давать’ [Там же. С. 137] (ми1ръ даz1й и4мъ), пріити (пріиди2 къ на1мъ). Союз я4кw – последний из десяти абсолютных церковнославянизмов, встречающихся в рассматриваемых молитвах, имеет в церковнославянском языке очень широкий спектр значений: «а) = русскому что при придаточных предложениях дополнительных: слы1шано бы1сть, я4кw въ дому2 е4сть (Марк. 2, 1); б) = русскому когда: и3 бы1сть я4кw и3спо1лнишасz днi1е слу1жбы е3гw2, и4де въ до1мъ сво1й» (Лук. 1, 23); в) с причинным значением (= русскому так как): дадите намъ t елеа вашегw, я4кw свэтильницы наши u3гаса1ютъ (Матф. 25, 8); г) со значением цели в сочетании с союзом да: tкуду намъ въ пустыни хлэби толицы, я4кw да насытитсz толикъ народъ (Матф. 15, 33); д) при предложении следствия (= русскому так что): И co6pacz паки народъ, я4кw не мощи2 и5мъ ни хлэба я4сти (Марк. 3, 20); е) со сравнительным значением (= русскому как): и3 бысть я4кw мертвъ (Марк. 9, 26); ж) при числительных для выражения приблизительности: пребысть же маріамъ съ нею я4кw три2 мэсzцы (Лук. 1, 56)» [Алипий, 1991. С. 149]. Очевидно, что в имеющемся у нас контексте союз я4кw представлен в сравнительном значении и соответствует русскому союзу как.
1 В исследуемых нами текстах этот глагол встречается только в последнем значении.
Рассмотрим приведенные выше абсолютные церковнославянизмы с точки зрения их структурного соответствия своим эквивалентам в национальных языках мира Slavia Orthodoxa. Церковнославянскому глаголу tверзати
в русском языке соответствует открывать, в белорусском – адчыняць, украинском - вiдчиняти, русинском - од-крывати, болгарском – отварям, македонском – отвора, сербском – отварати. Как видим, рассматриваемый здесь церков- нославянизм отличается от всех своих смысловых соответствий в этнических языках в первую очередь корневой морфемой и должен быть отнесен к числу собственно лексических церковнославянизмов.
Эквивалентом церковнославянскому посредэ2 в русском языке является среди, посреди, белорусском – пасярод, украинском - серед, посеред, болгарском -посред, сред, среди, сербском - усред, македонском – сред, среде, русинском – межи. По отношению ко всем своим экви- валентам в национальных славянских языках, за исключением русинского, лексема посредэ выступает как лексико-фонетический церковнославянизм нерегулярного типа, и лишь по отношению к русинскому – как лексический церковнославянизм.
Соответствиями церковнославянскому u3повати, по крайней мере, в значении ‘ждать, ожидать’ в этнических славянских языках являются: в русском – ждать , белорусском – чакаць , украинском – чекати , русинском - чекати , болгарском - чакам , очаквам , сербском - чекати , очекивати , надати се , македонском - чека . Как видим, глагол u3повати является чисто лексическим церковнославянизмом по отношению ко всем перечисленным национальным языкам.
Церковнославянизм царствіе коррелирует в русском языке с существительным царство , белорусском – царства , украинском – царство , русинском – царство , болгарском – царство , македонском – царство , сербском – царство . Это словообразовательный церковнославянизм. Заметим попутно, что в церковнославянском, наряду с царствіе , существует вариант царство , общий для церковнославянского и национальных славянских языков православного мира.
Глагол и3сполнzти соотносится по своему значению в русском языке с наполнять, бе- лорусском – с напаўняць, украинском – с наповняти, русинском – с наповневати, болгарском – с напълвам, македонском – с полни, сербском – с пунити, испуњавати. Как следует из приведенных примеров, лексема и3сполнz1ти выступает в качестве словообразовательного церковнославянизма по отношению ко всем своим эквивалентам в этих языках.
Глаголу пріити в современном русском соответствует прийти , в белорусском – прыйсці , украинском – надійти , русинском – прийти , болгарском – дойда , македонском – дойде , сербском – доћи . Как видим, лексема пріити выступает в качестве церковнославянизма по отношению ко всем своим эквивалентам в национальных языках мира Slavia Orthodoxa.
Церковнославянскому союзу я4кw, употребленному в сравнительном значении, в русском языке соответствует как , белорусском – як , украинском – як , русинском – як , болгарском – как , сербском – како , као , македонском – како . Это лексико-фонетический церковнославянизм нерегулярного типа.
Что же касается церковнославянского существительного благовре1меніе, являющегося калькой с греческого ε̉υκαιρία ‘удобное время’ [Вейсман, 1899. Ст. 547], то оно вообще не имеет однословных эквивалентов в этнических славянских языках и может быть переведено на любой из них лишь описательно, либо путем изменения грамматической конструкции в целом. Так, в белорусском переводе молитвы «Перед вкушением пищи» церковнославянскому и3 ты2 дае1ши и4мъ пи1щу во бл7говре1меніи соответствует «і Ты даеш ежу сваечасова» 2. Предложно-падежное сочетание церковнославянского текста здесь передается наречием сваечасова ‘своевременно’. Мы считаем, что данная лексема является абсолютным семантическим церковнославянизмом, поскольку ни один из рассматриваемых здесь национальных славянских языков не имеет единицы с таким значением.
Калькой с греческого является также церковнославянизм благоволе1ніе ‘любовь, расположение, добро, доброжелательство, добродетель’ [Дьяченко, 1993. С. 39]. Его источником стали либо ευδοκία, либо ευ-γνωμοσύνη [Старославянский словарь, 1999. С. 85]. В имеющемся контексте (и3сполнz1еши всz1кое живо1тно бл7говоле1ніz) актуальным является первое из перечисленных выше значений, поскольку речь в нем идет о божественной любви, наполняющей всякое живое существо. Неясно, чем отличается существительное благоволе1ніе от собственно любы2 ‘любовь’ [Дьяченко, 1993. С. 294], но, каковы бы не были различия между этими двумя словами, благоволе1ніе, несомненно, является лексическим церковнославянизмом, поскольку ни в одном из живых этнических славянских языков слово с таким фонетико-графическим обликом не зафиксировано.
Церковнославянскому глаголу даz1ти ‘давать’ в русском языке соответствует лексема давать , в белорусском – даваць , украинском – давати , русинском – давати , болгарском – давам , македонском – дава , сербском – давати . Таким образом, даz1ти представляет собой лексико-словообразовательный церковнославянизм, который, однако, отличается от своих эквивалентов в живых славянских языках православного мира не какой-либо словообразовательной морфемой, но вариантом корня, за пределами церковнославянского языка не встречающимся.
Существительное о4ко ‘глаз’ [Там же. С. 378] (представлено у нас только в форме множественного числа – о4чи всэ1хъ на тz2, гдcи, u3пова1ютъ ) выступает в качестве церковнославянизма по отношению к своим эквивалентам не во всех, но только в двух национальных языках мира Slavia Orthodoxa: русском и белорусском. По отношению к русскому глаз – это лексический церковнославянизм, а по отношению к белорусскому вока – лексико-фонетический нерегулярного типа. Во всех остальных славянских языках православного мира мы встречаем слово, общее с церковнославянским о4ко : укр. око (мн. ч. очі ), русинск. око (мн. ч. очі ), болг. око (мн. ч. очи ), маке-донск. око (мн. ч. очи ), сербск. око (мн. ч. очи ).
Существительное пи1ща ‘все съеденное, съедаемое, пища’ [Там же С. 427] ( и3 ты2 дае1ши и5мъ пи1щу во бл7говременіи ) является общим для церковнославянского и русского языков, однако выступает в качестве церковнославянизма по отношению к своим эквивалентам во всех остальных рассматриваемых здесь славянских языках: белорусск. ежа , страва ; укр. їжа , харч ; русинск. їджіня , їдло , страва , болг. храна , маке-донск. храна ; сербск. јело , храна . Как видно из приведенных примеров, церковнославянизм пи1ща противопоставлен своим эквивалентам в остальных славянских языках православного мира на лексическом уровне.
Существительное рука2 ‘рука’ ( tверзае1ши ты2 ще1друю руку твою2 ) является общим для церковнославянского и всех остальных языков мира Slavia Orthodoxa, за исключением болгарского, в котором лексема с соответствующим значением – ръка , и македонского – рака . По отношению к своим эквивалентам этих двух языков рука2 выступает в качестве лексико-фонетического церковнославянизма нерегулярного типа.
Субстантивированное краткое прилагательное среднего рода живо1тно ‘животное, живущее’ [Дьяченко, 1993. С. 184] ( и3спол-нz1еши всz1кое живо1тно бл7говоле1ніz ) в современном русском литературном языке соотносится с лексемой животное , в белорусском - с жывела, жывелiна , украинском – с тварина , русинском – со словосочетанием жывый твор , болгарском -с животно , македонском – с животно , сербском – с животиња . Как следует из приведенных примеров, лексема живо1тно является общей для церковнославянского, болгарского и македонского языков, и выступает в качестве словообразовательного церковнославянизма по отношению ко всем остальным.
Прилагательное ще1дрый ‘сострадательный’ [Там же. С. 838] (tверзае1ши ты2 ще1друю руку твою2) является общим для русского (щедрый), украинского (щедрий) и русинского (щедрый) языков. По отношению к болгарскому щедър, даже если взять в качестве «точки отсчета» краткую форму ще1дръ, данная лексема является лексико-фонетическим церковнославянизмом. Лексико-фонетический церковнославянизм прилагатель- ное ще1дрый и по отношению к белорусскому шчодры. По отношению к своему сербскому эквиваленту дарежљив лексема ще1дрый является лексическим церковнославянизмом.
Глагол благодари1ти ‘благодарить’ ( Бл7го-дари1мъ тz2, хрcте бж7е на1шъ ) выступает в качестве общей лексической единицы для церковнославянского, русского ( благодарить ), болгарского ( благодаря ), македонского ( благодари ) и сербского ( благодари-ти ). Впрочем, по отношению к сербскому и македонскому эквивалентам благодари1ти можно рассматривать как акцентный церковнославянизм вследствие смещения в сербском благод а рити и македонском благ о дари ударения на третий слог с конца. По отношению к своим эквивалентам в остальных славянских языках православного мира благодари1ти выступает в качестве лексического церковнославянизма. В белорусском языке ему соответствует дзякаваць , в украинском - дякувати, в русинском - дякова-ти .
Глагол насы1тити ‘насытить, накормить’ (я4кw насы1тилъ е3си2 на1съ земны1хъ твои1хъ бла1гъ) является общим для церковнославянского, русского (насытить), украинского (наситити) и русинского (насытити) языков. В белорусском этимологически родственный насы1тити глагол насыціць употребляется только как химический термин; применительно же к человеку, или какому-либо другому живому существу употребляется только накарміць. Таким образом, по отношению к своему белорусскому эквиваленту насы1тити является лексическим церковнославянизмом. Лексическим церковнославянизмом является эта лексема и по отношению к сербскому нахранити. А вот по отношению к другому сербскому глаголу с тем же лексическим значением – заситити она выступает как лексико-словообразовательный церковнославянизм. По отношению к болгарскому наситя и македонскому насити глагол насытити является лексико-фонетическим церковнославянизмом с односторонней регулярностью: церковнославянское ы в общих по происхождению словах всегда соответствует современному болгарскому и, однако обратной закономерности не наблюдается. По отношению к русинскому насытити лексема насы1тити выступает как акцентный церковнославянизм.
Глагол лиши1ти (не лиши2 на1съ и3 нбcнагw твоегw2
црcтвіz) является церковнославяниз- мом (во всех случаях – лексическим) только по отношению к белорусскому, украинскому и русинскому языкам: в белорусском ему соответствует пазбавіць, в украинском – по-збавити, в русинском – позбавити. Во всех остальных языках мира Slavia Orthodoxa мы имеем лексему, общую с церковнославянским: в русском – лишить, в болгарском – лиша, в македонском – лиши, в серб- ском – лишити.
Глагол спасти2 ( и3 спаси2 на1съ ) выступает в качестве церковнославянизма по отношению к своим эквивалентам в украинском ( врятовати ) и белорусском ( уратаваць ) языках. Во всех остальных этнических языках православных славян – лексема, общая с церковнославянским: в русском – спасти , русинском – спасти , болгарском – спася , македонском – спаси, сербском – спасти . Впрочем, сербское слово, вследствие смещения в нем ударения на первый слог, можно рассматривать как акцентный церковнославянизм.
Существительное u3чени1къ ( я4кw посредэ2 u3ченикw1въ твои1хъ пришелъ е3си2 сп7се ) является общим для церковнославянского, русского и болгарского языков. По отношению к сербскому у ченик , македонскому у ченик и русинскому у ченик (во всех этих трех языках соответствующее слово имеет ударение на первом слоге) u3чени1къ выступает как акцентный церковнославянизм, а по отношению к белорусскому вучань и украинскому учень – как лексико-словообразовательный.
Церковнославянское существительное ми1ръ ‘спокойствие, тишина’ [Дьяченко, 1993. С. 307] (ми1ръ даz1й и4мъ) выступает в качестве лексико-фонетического церковнославянизма нерегулярного типа только по отношению к украинскому мир [мыр], являясь общей лексической единицей для церковнославянского и всех остальных языков Slavia Orthodoxa: рус. мир, белорус. мір, ру-синск. мір, болг. мир, македонск. мир, сербск. мир. Поскольку даже для украин- ского языкового сознания церковнославянское ми1ръ не является непонятным, можно считать, что данное слово занимает пограничную позицию между двумя группами лексических единиц церковнославянского языка: словами, общими для церковнославянского и всех остальных языков мира Slavia Orthodoxa, и словами, выступающими в качестве церковнославянизмов по отношению только к некоторым (в данном случае, к одному) национальным языкам славянского мира.
Обобщающее местоимение всz1кий выступает в качестве словообразовательного церковнославянизма по отношению к белорусскому усялякі , лексико-фонетического нерегулярного типа по отношению к болгарскому всеки , лексического по отношению к сербскому сваки . По отношению к македонскому секој местоимение всz1кий следует рассматривать с диахронической точки зрения как лексико-фонетический церковнославянизм нерегулярного типа, однако фонетические изменения зашли в македонском настолько далеко, что какое-либо внешнее сходство между секој и всz1кий оказалось утраченным, из этого следует, что на синхронном уровне лексему всz1кий следует рассматривать по отношению к современному македонскому секој в качестве чисто лексического церковнославянизма.
В остальных языках православного славянского мира употребляется та же лексема, что и в церковнославянском: в русском – всякий , украинском – всякий , русинском – всякый .
Существительное бла1го ‘добро, доброе деяние, все служащее счастию, богатство, имение’ [Дьяченко, 1993, С. 39], объединяя церковнославянский язык с русским, украинским, русинским и болгарским, выступает в качестве лексического церковнославянизма по отношению к белорусскому дабро , даброта , сербскому добро , корист , македонскому добро .
Представим изложенный выше фактический материал в виде таблицы: в верхней ее части находятся абсолютные церковнославянизмы, а в нижней – единицы, выступающие в качестве церковнославянизмов по отношению к части национальных языков
Подведем итоги.
-
1. Почти все церковнославянизмы, имеющиеся в анализируемых нами текстах, принадлежат к знаменательным частям речи. Исключение составляют лишь лексемы я4кw и посредэ .
-
2. Почти все церковнославянизмы имеют однозначный перевод на любой из современных славянских языков православного мира. Исключение составляет лишь существительное бл7говременіе .
-
3. Степень близости лексики каждого из современных национальных языков православных славян к лексике церковнославянского – различна. Наиболее близким к церковнославянскому оказывается русский – полностью совпадают десять единиц из двадцати трех. На втором месте по этому признаку стоит болгарский (8 совпадений), на третьем – русинский (6 совпадений), чет-
- вертое место – украинский и македонский (по 5 совпадений), на пятом месте находится сербский (4 совпадения), на шестом – белорусский (только 2 совпадения).
Разумеется, эти выводы носят предварительный характер и нуждаются в проверке на материале более пространных текстов на церковнославянском языке.
CHURCH SLAVONIC ELEMENTS IN THE PRAYERS AFTER AND BEFORE MEAL