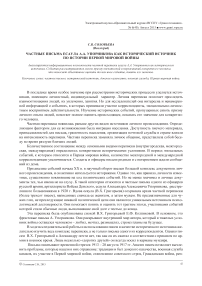Частные письма есаула А.А. Упорникова как исторический источник по истории Первой мировой войны
Автор: Соловьева Светлана Васильевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Социально-гуманитарные науки
Статья в выпуске: 6 (40), 2015 года.
Бесплатный доступ
Анализируются информационные возможности частной переписки есаула А.А. Упорникова как исторического источника. События рассматриваются сквозь призму впечатлений и переживаний конкретного человека, что помогает объективнее оценить то или иное событие, понять его значение.
Частное письмо, исторический источник, донское казачество, военная служба, первая мировая война
Короткий адрес: https://sciup.org/14822322
IDR: 14822322
Текст научной статьи Частные письма есаула А.А. Упорникова как исторический источник по истории Первой мировой войны
В последнее время особое значение при рассмотрении исторических процессов уделяется источникам, имеющим личностный, индивидуальный характер. Личная переписка помогает проследить взаимоотношения людей, их увлечения, занятия. Но для исследователей она интересна и ненамеренной информацией о событиях, в которых принимали участие корреспонденты, эмоционально-личностным восприятием действительности. Изучение исторических событий, пропущенных сквозь призму личного опыта людей, помогает полнее оценить происходящее, показать его значение для конкретного человека.
Частная переписка появилась раньше других видов источников личного происхождения. Определяющим фактором для ее возникновения была миграция населения. Доступность писчего материала, принадлежностей для письма, грамотность населения, организация почтовой службы в стране влияли на интенсивность переписки. Частная переписка заменяла личное общение, представляла собой беседу во время разлуки близких людей.
Количественное соотношение между основными видами переписки (внутригородская, межгородская, международная) определялось конкретными историческими условиями. В период эпохальных событий, к которым относится и Первая мировая война, количество межгородской и международной корреспонденции увеличивается. Солдаты и офицеры писали родным и с нетерпением ждали сообщений из дома.
При анализе событий начала ХХ в. в научный оборот введен большой комплекс документов личного происхождения, и он активно используется историками. Однако это, как правило, личности известные, существенно повлиявшие на ход политических событий. Но не менее значимы и личные документы тех, чьи имена не на слуху. К такой категории относятся и частные письма одного из офицеров русской армии, артиллериста Войска Донского, есаула Александра Алексеевича Упорникова, расстрелянного большевиками в 1920 г. Вдова есаула (В.Х. Григорьева) сохранила архив частной переписки (более трехсот писем), написанных сначала ее женихом, а затем мужем. Не предназначенные для чужих глаз, не преследующие никакой политической цели они являются уникальным источником психологической достоверности. Они помогают понять и оценить тот трагизм эпохи, участниками событий которой стали обычные люди, выполнившие свой долг с честью до конца.
Эта переписка была опубликована снохой В.Х. Григорьевой Е.Ф. Колпиковой. В основном, это фронтовые письма А. Упорникова. Они раскрывают внутренний мир автора, который в тяжелых условиях войны оставался человеком – любил, мечтал, размышлял, строил планы на будущее.
В ходе исследовательской работы и использования писем в качестве исторического источника желательно изучить весь комплекс переписки, а не только письма одного из корреспондентов. Однако писем В.Х. Григорьевой к Александру почти нет, так как он их сжигал в соответствии с приказом по армии в военное время. Лишь несколько «дорогих друзей» он всегда носил в кармане мундира.
Письма охватывают временной отрезок 1913 – 20 августа 1917 гг. Анализ писем позволяет вычленить проблемы, которые нашли в них отражение: традиции и быт донского казачества, военная служба казаков, их участие в Первой мировой войне, становление советского строя, Гражданская война, реп- рессии большевиков. Но главное, чему посвящены письма, это великая любовь двух сердец – Александра Алексеевича Упорникова и Валентины Хрисанфовны Григорьевой. Письма помогают представить облик донского казачьего потомственного офицера, истинного патриота Дона и России.
Род донских казаков Упорниковых станицы Акишевской Хоперского округа насчитывает 7 колен [1]. Исследователь донской генеалогии С.В. Карягин его начало относит к 1700 г. и начинает род Упор-никовых с имени реестрового казака Трифона. Более полная информация о мужских представителях рода Упорниковых начинается со второго колена и содержится в послужных списках донских казаков Упорниковых, которые хранятся в Российском государственном военно-историческом архиве. Упор-никовы были участниками многих военных кампаний, имели чины, награды за службу. Дед Александра Алексеевича был станичным атаманом.
Александр Алексеевич Упорников относился к VI колену рода. VI колено рода Упорнико-вых было блестяще образовано. Саша закончил Симбирский кадетский корпус, а затем Михайловское артиллерийское училище в Петербурге в 1912 г. Отец, полковник Алексей Иванович Упорников (ок. 1853 – 1911), был известен далеко за пределами своей станицы как прекрасный человек, обладавший мягкой, отзывчивой душой, как общественный деятель и известный коннозаводчик. Мать, Ше-фель Мария Германовна, была родом из немецких дворян, блестяще владела немецким и французским языками. Все сыновья Алексея Ивановича были блестящими казачьими офицерами.
Встреча Александра и Валентины не была случайной. Александр был знаком с братом Валентины и иногда приезжал летом на каникулы в станицу Урюпинскую, где она жила. Однако ближе они познакомились в польском городке Замостье, где ее отец, войсковой старшина, и брат, сотник, проходили военную службу. Дочь с матерью каждое лето приезжали к отцу.
Валентина училась в гимназии в станице Усть-Медведицкой, ей было 17 лет. Первая встреча в Замостье состоялась в феврале 1913 г. Это была любовь с первого взгляда, которую они пронесли через всю жизнь. Судьба приготовила им тяжелые испытания, вместе они были не долго, большая часть их отношений нашла отражение в переписке. Он был расстрелян в возрасте 27 лет, она дожила до 84 лет, но вся ее жизнь после его гибели была мысленно связана с ним. Читая письма, понимаешь, что такое настоящая любовь, что ее главным содержанием является забота о любимом человеке. Отношения двух молодых людей были примером высокой культуры и нравственности. Обращения в письмах, сначала «Ее высокородию Валентине Хрисанфовне Григорьевой», затем «Милая, дорогая Валечка! Мой милый друг», «Целую Вашу руку» так трогательны, напоминают о какой – то утраченной культуре общения в век сотовой и электронной связи.
На 1914 г. у влюбленных были особые планы. А. Упорников собирался поступать в военную академию, был доволен своей службой в Замостье, готовился к артиллерийским сборам. Валю ждали экзамены в предпоследнем классе гимназии. Он сначала не был уверен в ее чувствах и в марте 1914 г. писал: «…Может быть, мы даже не увидимся вовсе, так как тучи на границе снова собираются и ведь грянет когда-нибудь гром на полях Восточной Пруссии. Я жду с надеждой и очень эгоистично этой войны. Жду ее как личного счастья. И знаете, жду потому, что мне больно думать о том времени, когда я буду равнодушно смотреть на Вашу карточку…» [2, с. 212].
В конце мая 1914 г. Валя с мамой приехали в Замостье, где 14 июля и состоялось их признание в любви. 1 августа началась Великая война, 6 августа в ст. Урюпинской состоялся станичный сход, где объявили об участии России в военных действиях против Германии.
-
7 августа А. Упорников из Новочеркасска написал в письме «События летят, как будто в синематографе, и только один вечер 14 июля кажется и близким и понятным» [2, с. 216].
Война вошла в жизнь Григорьевых. Отец, Хрисанф Федорович, сражался на Юго-Западном фронте, брат Виктор на границе с Румынией. Валя писала письма Саше на адрес брата в надежде, что он с ним встретится и передаст. 7 ноября 1914 г. А. Упорников был контужен и долго лежал в госпитале. Четыре месяца Валентина не получала писем, ранее неверующая, она стала ходить в церковь. В январе 1915 г. Валентина стала получать письма от любимого. «Теперь изменилась сама война. Впрочем, о войне ты достаточно знаешь из газет и к тому же гораздо больше, чем я. Писать о личных впечатлениях не хочется… Иногда просто не верится, что настанет день, когда кончится война, когда, может быть, встретимся. Ведь насчет того, что немцев побьют, у нас никто не сомневается. Все лишь вопрос времени, да известного количества жертв. Дорвались все-таки до немцев, и я уверен, что дорвемся и до их фатерлянда» [Там же, с. 219].
В июне 1915 г. В. Григорьева окончила гимназию и собиралась пойти на курсы сестер милосердия, чтобы уехать на фронт и быть рядом с Сашей. Мама была против, да и письма от него она с февраля по октябрь опять не получала. От брата Валя знала, что он воевал где-то в Галиции. Позже она поняла, что причиной молчания были душевные терзания не только личного характера.
После победной осени 1914 г. началась позиционная война 1915 г. В мае А. Упорников испытал газовую атаку под Варшавой. Нехватка артиллерийских снарядов, вынужденное молчание батарей, разгром русской армии в Галиции осенью 1915 г. Жуткая депрессия. Многие из его сверстников не выдержали этой драмы. В октябре 1915 г. В. Х. Григорьева уехала в Москву, поступила в частную музыкальную школу и поселилась у знакомых на Зубовском бульваре.
Но не только музыка была причиной этой поездки, ей хотелось быть ближе к любимому, который находился в это время на линии фронта Орша-Могилев-Минск. Встреча состоялась в ноябре 1915 г., когда А. Упорникову дали отпуск. Они съездили в станицу Урюпинскую, где он попросил у матери невесты Е.Л. Григорьевой благословения на брак с Валентиной. Было решено, что венчание состоится в 1916 г. во время очередного отпуска Александра.
В начале 1916 г. А. Упорников встретился в Витебске с отцом Валентины и получил от него разрешение на брак. Практически ежедневная переписка 1916 г. создавала иллюзию близости, постоянного общения с любимым человеком. В апреле 1916 г. А. Упорников начинает собирать документы для официального оформления брака.
В июле у А. Упорникова, благодаря стараниям его старшего брата, появилась перспектива карьерного роста и службы в Царском селе. Однако, буквально в последний момент, он передумал и возвратился в родную 15-ю Донскую казачью батарею. В письме он пишет, что «казаки страшно рады, что я снова в батарее, и это лучшая награда за все два года. Сегодня пришлось услышать так много хорошего, что мне иногда просто совестно становится. Вот, родная, чисто боевая награда, ничуть не похожая на те «вывески храбрости», которых так много в тылу и совсем не встретишь на линии огня» [Там же, с. 338].
-
4 сентября 1916 г. в церкви Николы в Хамовниках в Москве состоялось венчание А.А. Упорнико-ва и В. Х. Григорьевой. После венчания был торжественный обед в доме на Зубовском бульваре, вечером посещение Большого театра, где пел Ф. Шаляпин.
В честь заключения брака А. Упорникову дали отпуск, который молодожены провели в станице Урюпинской Хоперского округа Области Войска Донского. 10 октября 1916 г. Александр писал, «когда читаешь теперь газеты, то невольно вспоминаются слова Гинденбурга, что победит тот, у кого нервы окажутся сильней на пять минут. Порой кажется, что предел упругости у обеих враждующих сторон приходит к концу, особенно когда вспоминаешь все виденное и слышанное за время отпуска. Теперь прямо с ожесточением буду ждать весны. До нее наш фронт вряд ли станет деятельным, но с первыми теплыми днями должны начаться решающие, наконец, бои» [Там же, с. 398].
В письме от 8 ноября он ужасается «ведь за нами уже больше двух лет войны. Рассчитывали мы когда-нибудь на подобную цифру?» [Там же, с. 413]. В письмах начала 1917 г. больше говорится о личном, сокровенном. Александр переживает за жену, за ее здоровье. Им удалось несколько раз встретиться, и эти встречи согревали их в разлуке.
В письме от 6 марта вновь появляются суждения о происходящем в стране «сейчас довольно интересно поболтаться где-нибудь в крупных центрах и самому понаблюдать, как русское общество перейдет к новой жизни. Ведь это не так легко сделать, а у многих и голова закружится от слишком приятных перспектив… У нас ведь часто все бывает отлично до тех пор, пока надо пожертвовать многим на общее благо. Если Россия сумеет из этого момента выйти с честью, то будет счастьем чувствовать себя русским. Воображаю, как много неприятного переживают немцы, читая, что совершилось у нас. Теперь только бы хороший успех весной. Я почему-то верю, что старый вождь принесет с собой и новое счастье. А там, может быть, снова широкое поле для конницы, снова бодрость и веселый дух. Пора перестать быть окопными крысами» [Там же, с. 460].
Но уже 14 мая в письме он отмечает, что « в будущем мне мало светлого кажется в этой службе в этом положении офицера, отвечающего за все и абсолютно ничего не значащего. Когда-то, надевая погоны, мне хотелось быть образцом рыцарства, и на звание офицера, мне казалось, подчиненные должны были молиться… И вдруг все пропало. Даже бороться не с чем и незачем. Война, на мой взгляд, уже проиграна, и теперь совершенно безразлично, будем ли мы продолжать драться… Теперь незачем быть умным, сильным - это не нужно. Красный флаг и уменье говорить слова, необходимые для этой минуты, и прежний враг – приятель» [Там же, с. 497–498].
В июне 1917 г. у Упорниковых родился сын Левушка. Алексей очень переживал, что находится вдали от жены и сына и надеялся, что его часть будет передислоцирована в Новочеркасск. Все светлое в жизни есаула тогда было связано с семьей, а на фронте и в стране «грязь и обман». «Не сердись на сухое письмо. Хотел тебе много написать совсем другое, но сбился на современное и все пропало» [Там же, с. 530].
В письме от 10 августа 1917 г. Александр пишет: «Теперь я уже привык к мысли, что мы ничто, что вообще русской армии нет. Но и то просто злость берет, как все подорвано и разрушено…Я убежден, что скоро, очень скоро будет конец всему, хотя по-видимому кругом говорят совсем другое» [Там же].
Последнее письмо пронизано грустью и унынием. Он пишет, что его взгляды сильно изменились вместе с самой войной, «какой глупой и варварской кажется теперь мне она! А между тем, ведь мы теперь не деремся, крови почти нет. Но какой-то скверный дух носится над этими полями. Это, мне кажется, – стыд, тот стыд, который каждый из нас чувствует и от которого негде укрыться. Читаешь газеты, и от их страниц веет таким мраком, а здесь устраиваются кинематографы, торгуют солдатские магазины, стоит непередаваемый разврат и ни одного выстрела... Не понимаю я что-то такой войны, и потому мне здесь невыносимо. А мне, родная, так хочется жить, так тянет к тем дням, на которые мы все имеем право. Мне хочется быть с тобой, около тебя всегда так спокойно, а большего я не прошу от судьбы» [Там же, с. 543–544].
В начале сентября 1917 г. 15 Донская казачья батарея была передислоцирована на Дон. Эшелон прибыл не в Новочеркасск, а ночью на станцию Алексиково. Станция была оцеплена казаками, атмосфера была тревожной.
В 1918 г. есаул А.А. Упорников вступил в Донскую армию П.Н. Краснова и был назначен командиром 5-й Донской батареи. Он остался верен долгу и чести. Валентина Хрисанфовна, оставив сына с матерью в станице Урюпинской, воевала вместе с ним. Она больше не могла с ним расставаться.
Гражданская война как молох прошла по судьбам русских людей. Трагичной была и судьба Упор-никовых. Он принял решение не эмигрировать, т.к. его подчиненные казаки не могли с ним попасть на корабль, да и сын оставался в России.
В марте 1920 г. белогвардейский офицер есаул А.А. Упорников был арестован и попал в лагерь для военнопленных. Женам казаков пригрозили, что если они пойдут за мужьями, то будут незамедлительно расстреляны. Последний раз они встретились в Ростове в лагере для военнопленных. Он был ранен, на нем был разорван мундир, сорваны погоны, без сапог, серое распухшее лицо. Его последними словами были «Береги Левика».
Из Ростова пленные были отправлены в Москву. Валентина упорно пыталась найти мужа. Она попала на прием к Е. Пешковой (жене М. Горького), возглавлявшей Комитет по военнопленным. Но все было напрасно. Красноармеец, провожавший В. Упорникову после приема, шепнул ей, что донцов увозят на Север, к Соловкам. В Холмогорах она встретила казака из батареи мужа, который сообщил ей, что А. Упорников в числе многих расстрелян в Белом море. Уговорив рыбака помора отвезти ее на остров – плавун, Валентина сняла с шеи серебряный крестик и, прощаясь с мужем, опустила его в воду.
Судьба донского есаула А. Упорникова трагична. Он хотел жить, любить, растить детей, служить России. Он остался верен присяге и офицерскому долгу ценой собственной жизни.
Холщовый мешочек с письмами, перевязанный синей лентой… Благодаря им, нам стала известна история любви донского казачьего офицера Александра Алексеевича Упорникова и Валентины Хрисанфовны Григорьевой во взаимосвязи с политическими событиями в нашей стране в начале ХХ в. Жизнь семьи Упорниковых была неразрывно связана с Первой мировой и Гражданской войной. Эти события кардинально повлияли на изменение традиционного отношения донских казаков к военной службе.
Патриотические настроения 1914 г., надежда на возможность проявить себя в условиях войны и продвинуться по служебной лестнице сменились в 1915–1916 гг. пессимизмом и депрессией. В обществе изменились представления о долге и чести, и это приводит к конфликту мировоззрения есаула А. Упорникова. Жизнь семьи Упорниковых могла бы сложиться иначе, если бы не Первая мировая война и последовавшие за нею события.
Человек, семья, история страны. Все это тесно взаимосвязано. Личность творит историю, но и исторические события круто изменяют жизнь человека. Частные письма позволяют проследить, как люди переживают на себе исторические события, как меняется их личная жизнь, психология, настроения в обществе. Разноплановый характер переписки позволяет рассмотреть события социально – политической истории, пропущенные через личный опыт их авторов. Письма – это источник для изучения «истории снизу».
Список литературы Частные письма есаула А.А. Упорникова как исторический источник по истории Первой мировой войны
- Карягин С.В. Упорниковы и другие. Серия «Генеалогия и семейная история Донского казачества». Вып. 25. М., 2002.
- Колпикова Е.Ф. 300 писем расстрелянного офицера. М., 2009.