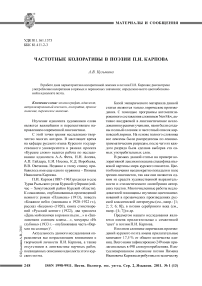Частотные колоративы в поэзии П. И. Карпова
Автор: Кузьмина А.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 1 (13), 2011 года.
Бесплатный доступ
В работе дана характеристика колоративной лексики в поэзии П.И. Карпова; рассмотрено употребление колоративов в прямых и переносных значениях; определено место цветообозначе- ний в идиолекте поэта.
Лексикография, идиолект, актуализированный лексикон, колоратив, прямое значение, переносное значение
Короткий адрес: https://sciup.org/14970177
IDR: 14970177 | УДК: 811.161.1373
Текст научной статьи Частотные колоративы в поэзии П. И. Карпова
Изучение идиолекта художников слова является важнейшим и перспективным направлением современной лингвистики.
С этой точки зрения исследовано творчество многих авторов. В настоящее время на кафедре русского языка Курского государственного университета в рамках проекта «Курское слово» ведется работа по исследованию идиолекта А.А. Фета, Н.Н. Асеева, А.П. Гайдара, Е.И. Носова, К.Д. Воробьева, В.В. Овечкина. Недавно к этому списку прибавилось имя еще одного курянина – Пимена Ивановича Карпова.
П.И. Карпов (1887–1963) родился в селе Турка Рыльского уезда Курской губернии (сейчас – Хомутовский район Курской области). К сожалению, опубликованных произведений немного: роман «Пламень» (1913), повесть «Кожаное небо» (написана в 1920–1922 гг.), рассказ «Бесенок» (1920), книга стихотворений «Русский ковчег» (1922), два триолета «День мой окончен в крови и пыли…» и «Запламенели солнцем клены…», мемуары «Из глубины» (1933 г. – опубликована часть «Верхом на солнце») 1.
Актуальность данного исследования определяется все возрастающим вниманием к творческой личности П.И. Карпова, а также отсутствием в лингвистике научных работ, посвященных описанию идиолекта этого курского поэта.
Базой эмпирического материала данной статьи являются только лирические произведения. С помощью программы автоматизированного составления словников NewSlov, активно внедряемой в лингвистические исследования курскими учеными, нами были созданы полный словник и частотный список кар-повской лирики. На основе полного словника все лексемы были распределены по лексикограмматическим разрядам, после чего из каждого разряда была сделана выборка ста самых употребительных слов.
В рамках данной статьи на примере ко-лоративной лексики показана специфика языковой картины мира курского писателя. Цве-тообозначения неоднократно попадали в поле зрения лингвистов, так как они являются одним из средств художественной выразительности и стилистического своеобразия авторских текстов. Многочисленные работы исследователей посвящены изучению цветонаиме-нований в прозаических произведениях русской классической литературы (см., напр.: [1; 2; 5; 6; 8]), в поэзии серебряного века (см., напр.: [4; 7]) и др.
Предметом нашего исследования являются имена прилагательные с семантикой ‘цвет’ в поэзии П.И. Карпова.
В полном словнике лирических произведений курского поэта имена прилагательные занимают 17,5 % от общего количества единиц. Всего нами зафиксировано 249 имен прилагательных в 498 словоупотреблениях. В актуализированном лексиконе поэзии Пимена Ивановича Карпова атрибутивы по количеству словоупотреблений занимают второе место (первое – имена существительные, 1 478 словоупотреблений), а по числу лексем – третье (после существительных и глаголов – 616 (43 %) и 299 (21 %) единиц соответственно), что говорит о значимости данного лексикограмматического разряда в идиолекте курского поэта.
В первой сотне высокочастотных имен прилагательных зафиксировано тринадцать ко-лоративов : золотой / златой (13/1), кровавый (9), голубой (6), лазурный (6), зеленый (4), красный (4), лазоревый (4), синий (3), черный (3), багровый (2), багряный (2), белый (2), бледный (2).
Наиболее употребительное прилагательное золотой / златой чаще всего используется в переносном, метафорическом, значении ‘цвет золота, оттенок желтого’ и определяет существительные, характеризующие явления неживой природы, – растения, их части и совокупности: колос, оаз (то же, что оазис ) , цветы, снопы, копья (‘листья’); небесные тела: звезды, созвездья ; водное пространство: ключ (‘источник, родник’). Например: А я, твой буйный отпрыск и твой плод, / Качаясь спелым колосом златым , – / Все так же буду грохотом слепым / Благословлять твоих зачатий год! (с. 220); Гей, вставайте, сраженные горем, / Рассыпайте, как розы над морем, / Золотые созвездья , цветы ! (с. 225); Золотые ключи , солнцеструи, / Смех русалочий, сны, поцелуи (с. 225).
Употребительны сочетания с лексемами, обозначающими артефакты в широком смысле слова, то есть творения человеческих рук, – ‘корабль, судно’: ладья, ковчег ; ‘напитки’: вино. Например: О золотой ковчег , о Светлый Град – / Россия от востока до заката! (с. 228); Пейте солнце, вино золотое ! (с. 225).
Семантику ‘прекрасный, лучший, счастливый’ атрибутив золотой приобретает в словосочетаниях, отражающих внутреннее состояние человека: Как стрелы литые, / В лесной тишине / Лады золотые / Запели во мне (с. 227), а также обозначающих какие-либо промежутки времени: Светлых обителей много, / Дней золотых – без числа (с. 230). Это же значение слово золотой реализует в сочетании с именем собственным Салим, древним названием города Иерусалима: А когда мы, корчась, / Сгорим / На кострах багровых – / Обретем мы / На горелых корчагах / Золотой / Салим... (с. 221).
В поэзии П.И. Карпова зафиксировано четыре примера с прилагательным красный , но цветовую характеристику оно имеет только в двух случаях. О.И. Гамали и О.Б. Каневская утверждают, что «символика красного связана, во-первых, с жизнью и смертью через образы крови, разрушительного огня» [3, с. 383]. Данное значение реализуется в контексте: Красный огонь , помоги! / Осанна! / Жизнь ли, колдунью пленную, / Кровь ли дурманную, / Плоть ли растленную – / Жги! (с. 224). Прилагательное красный может обозначать цвет зари, заката: Русая девушка прячет / Взор свой у желтой тропы, / Красным закатом маячат / Ей золотые снопы (с. 230).
Отметим, что в лексиконе курского поэта частотны оттенки красного цвета: кровавый, багровый, багряный. Данные колорати-вы сочетаются с именами существительными, обозначающими: 1) явления неживой природы: кровавая заря, кровавая лилия, багряное солнце ; 2) части тела человека или животного: багровое крыло ; 3) артефакты в широком смысле слова: багровый костер, багряный колокол. Например: Над городом жуткая виснет звезда, / Треплется кровавой лилией (с. 233); Но, предреченная пророком, / Как взмах багрового крыла , / Над заколдованным Востоком / Восстаний сказка расцвела (с. 231); Ты вороном над бором старым, / Багряный колокол , гуди, / Пролейся трепетным ударом / И Русь глухую пробуди (с. 235).
В произведениях П.И. Карпова широко представлена палитра синего цвета: синий, голубой, лазурный, лазоревый. Данные ко-лоративы употребляются в прямом значении (глаза синие, звезда лазурная и голубая, цветок лазурный, лазоревый и голубой): И видели с звезды святые / Пророка синие глаза, / Как пролилась огнем Россия / И сотрясла миры гроза (с. 232); Звезду голубую Предутрия сбросив во мглу, / Я в мантии молний, в короне из звезд, огнеликий, / Пройду над землею, неведомый благу и злу (с. 235). Отметим, что символ «лазоревого цветка», ассоциирующийся с народной поэзией, проходит через все творчество курянина и является центральным, так как обозначает Россию: Но колокольчиком поток / Звенит и сказки льет лесныя, / Что жив лазоревый цветок, / Не умерла еще Россия (с. 217).
В прямом значении используется прилагательное голубой при описании неба: Но, напоив миры свободой, / Железным голосом крича, – / Под голубым и звездным сводом / Сама сгорела, как свеча (с. 232).
В переносном употреблении колоративы, обозначающие оттенки синего, встречаются при описании природных явлений: Полюблю голубую зарю , / Нет заклятое, жуткое да, / И в тебе, и с тобою сгорю, / Ключ-звезда! (с. 226); Рассветом голубым облив фиалки, / Дымятся звезды – счастья талисманы (с. 234); Синюю весну , / Молодость святую / Я, как луч волну, / Благостно целую (с. 219); Перед нами встают из пустыни / Реки пра-отцев, Тигр и Евфрат, / Да индийские знойные сини, / Да сиянье лазоревых врат (с. 236); Восстань! Раскрой души глаза, / Добыча бед: / Вскипает синяя гроза , / Несет свой свет (с. 238); К солнцу тропиков! К звездному зною! / К Светлограду! К лазурным ветрам ! (с. 236).
В двух последних контекстах цветообоз-начения синий и лазурный приобретают дополнительную семантику ‘сильный, бурный’ и ‘теплый, спокойный’ соответственно.
В сочетании с именем существительным голоса прилагательное голубой приобретает семантику ‘радостный’: Ключ-звезда потонула в пруду... / Голубые звенят голоса (с. 226).
Прилагательное лазурный часто сочетается с абстрактными существительными и имеет при этом переносное значение ‘прекрасный, радостный’: Меня, опаленного огненным знаком лазурным , / Одетого в мантию молний и вещих зарниц, / Смятенные толпы встречали дыханием бурным, / Во мгле предо мною и в ужасе падая ниц (с. 235); Мне в сердце, оттуда, / С лазурной звезды, – / Лазурного чуда / Упали лады (с. 227).
Актуальным в поэзии П.И. Карпова является один из самых частотных колорати-вов в русской лирике – зеленый. По мнению А.Т. Хроленко, причина такой востребованности «не только в распространенности соответ- ствующего цвета в природе, но и в особой культурной ценности рассматриваемого признака. Зеленое – это маркер позитивной вы-деленности объекта, характеризуемого соответствующим колоративом» [9, с. 178]. Чаще всего в исследуемых нами контекстах зеленый характеризует художественный локус, пространство и элементы ландшафта: Сказал и в дебри канул, хохоча, / Пропал в лесу, в зеленом шуме свежем (с. 218); Мне березка красивей мечты / И покоя желанней костер, / Зацветут по раздолью цветы, / На зеленый я выйду простор (с. 226). Данный колоратив используется и при описании цвета глаз: Горит ея зеленый глаз / Из темноты (с. 240).
Для поэтики П.И. Карпова характерно метафорическое использование атрибутива черный – ‘тяжелый’, ‘зловещий’, ‘мрачный’, ‘безотрадный’: Но вскрываются черные раны / В смертоносном дыханье войны: / Нами все уж изведаны страны, / Нами все уж пути пройдены (с. 236); И крылья радости, и черный парус боли – / Все в схватке яростной плывет невесть куда (с. 224); Но не взгремел никто со мною вместе, / И черный поглотил меня провал (с. 226).
В лирических текстах нами зафиксирован колоратив белый , использующийся при характеристике фитонимов и соматизмов, символизируя чистоту, ясность, свет: И белая тебе приснилась лилия , / А мне приснилось: некуда идти (с. 230); Над городом жуткая виснет звезда, / Треплется кровавой лилией, / А ветер, гоня стаи надежд неведомо куда, / Белые ломает крылья (с. 230).
Прилагательное бледный в значении ‘слабо окрашенный’ мы также включаем в состав колоративной лексики. Однако в контексте, определяя имена существительные луна , свет , оно актуализирует дополнительный смысл ‘мистический’, ‘нерациональный’: Бледна , таинственна луна , / Простор и ширь (с. 239); Текут в моей груди прибои шума, / Тепло да свет мечтательный и бледный (с. 234), что подчеркивается в контексте однородными членами таинственна , мечтательный .
Итак, анализ колоративной лексики в актуализированном лексиконе П.И. Карпова показал, что для идиолекта писателя характерно употребление колоративов как в прямом, так и в переносном значениях, в контексте рассматриваемые прилагательные приобретают дополнительные семантические оттенки, а также создают цветовые символы.
Список литературы Частотные колоративы в поэзии П. И. Карпова
- Алешина, Л. В. Цветообозначения в идиостиле Н.С. Лескова/Л. В. Алешина//Вопросы лексики и фразеологии русского языка: сб. науч. ст. -Орел: Изд. дом «Орлик», 2004. -С. 19-23.
- Брагина, А. А. Темно-синий с красным Пьер… (Цветовой образ у Толстого)/А. А. Брагина//Русская речь. -1983. -№ 5. -С. 20-26.
- Гамали, О. И. Цветообозначения в поэтической картине мира начала XIX века/О. И. Гамали, О. Б. Каневская//Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: сб. науч. тр. -Вып. 4. -М.; Архангельск: Помор. ун-т, 2009. -С. 380-389.
- Губенко, Е. В. Лексико-семантические поля цвета и света в лирике Б. Пастернака: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01/Е. В. Губенко. -М., 1999. -199 с.
- Капралова, С. Г. «Цветовая» лексика в рассказе И.С. Тургенева «Бежин луг»/С. Г. Капралова//Русский язык в школе. -1968. -№ 5. -С. 18-20.
- Матвеев, Б. И. Цветопись в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»/Б. И. Матвеев//Русский язык в школе. -2003. -№ 1. -С. 67-72.
- Надиров, С. С. «Цветовые» прилагательные в стихотворениях Александра Блока/С. С. Надиров//Русский язык в школе. -1970. -№ 6. -С. 36.
- Ничипоров, И. Б. Цветовое и звуковое оформление степных пейзажей в прозе А.П. Чехова/И. Б. Ничипоров//Вестник Московского университета. -2007. -№ 5. -С. 109-114.
- Хроленко, А. Т. Лингвофольклористика. Листая годы и страницы/А. Т. Хроленко. -Курск: Изд-во Кур. гос. ун-та, 2008. -229 с.