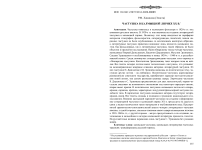Частушка в калмыцкой лирике XX в.
Автор: Ханинова Римма Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
Частушка появилась в калмыцком фольклоре в 1920-е гг. под влиянием русского аналога. В 1930-е гг. она повлияла на создание литературной частушки в калмыцкой лирике. Поскольку этот жанр находился на периферии интересов этнографов, фольклористов, литературоведов, писателей, записи народных частушек не были опубликованы, за исключением некоторых образцов, а литературные частушки привлекли внимание лишь немногих калмыцких поэтов. Как фольклорные, так и литературные частушки, таким образом, не были объектом и предметом исследования. Нами обнаружены только четыре частушки, написанные Пюрвей Джидлеевым, Басангом Дорджиевым, Мутулом Эрдниевым, Санджи Эрдюшевым и опубликованные в конце 1930-х - 1940-м гг. в республиканской печати. Среди упомянутых литературоведами частушек этого периода и «Пионерские частушки» Константина Эрендженова, текст которых пока не найден. Все тексты четырех поэтов имеют подзаголовок «частушка», что указывает на целенаправленное жанровое освоение авторами литературной частушки. Из них частушки П. Джидлеева и М. Эрдниева написаны на политическую тему, частушки других поэтов - на любовную. Политические частушки, адресованные руководителю советского государства, приобретают характер магтала-восхваления новой жизни, тем самым размывая границы жанра. Лирические частушки Б. Дорджиева и С. Эрдюшева предназначены для двух исполнителей, первая частушка указывает на возможность исполнения под известную народную песню, вторая имеет припев. В политических частушках калмыцких поэтов нет сатиры, иронии, сарказма, критики, характерных для русской фольклорной частушки подобного типа. В лирических частушках калмыцких авторов отсутствуют сатира, ирония, юмор. Все тексты созданы в основном в традициях национального стихосложения. Влияние калмыцкой народной частушки на создание и формирование литературной частушки в калмыцкой лирике ХХ в. проследить не удается в связи с малым количеством таких материалов в опубликованном виде. Предпринятый сравнительно-сопоставительный анализ четырех литературных частушек показал, с одной стороны, попытки освоения нового жанра калмыцкими поэтами в 1930-1940-е гг., с другой стороны - малую продуктивность в их создании, исчезновение в дальнейшем в истории калмыцкой литературы прошлого столетия. На русский язык недавно переведена лишь частушка С. Эрдюшева без указания жанра.
Калмыцкая частушка, калмыцкая литературная частушка, традиция, трансформация, русский перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/149127461
IDR: 149127461 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00089
Текст научной статьи Частушка в калмыцкой лирике XX в.
Как уже отмечалось, «дореволюционной Калмыкии частушки не были знакомы, впервые они получили распространение (по словам сказителей) в 20-х годах нашего столетия» [Народное творчество Калмыкии 1940, 293]. В «Истории калмыцкой литературы» позднее сообщено: «Одной из особенностей связи калмыцкой поэзии и фольклора в 30-е годы было также влияние народнопоэтического жанра частушки. Особенно это относит-
** The study was conducted as part of the state subsidized project “Oral and written heritage of the Mongolian peoples of Russia, Mongolia and China: cross-border traditions and interactions” (registration number AAAA-A19-119011490036-1).
ся к современному живому фольклору В частушках воспевалась радость жизни, родная природа, любовь и дружба (“Красота” М. Эрдниева, “Любовь” С. Эрдюшова, “Пионерские частушки” К. Эрендженова...). Нередко частушки использовались авторами, как вставки, в других произведениях поэзии» [История калмыцкой литературы 1980, 92]. В то же время в этой главе «Поэзия» нет никаких цитат из перечисленных литературных частушек, нет и примеров со вставками частушек калмыцких поэтов в другие жанры. Как писала Б. Лиджиева-Бадмаева в статье, адресованной творчеству народного поэта Калмыкии Константина Эрендженова, «характерной чертой произведений, написанных в это время, является их органическая связь с бурно меняющейся, преобразующейся на глазах жизнью (“Марш калмыцких стахановцев”, “Максиму Горькому”, “Пионерские частушки”, “Богач, сменивший лицо”, “Степная искра” и другие). Автор сумел выразить величие перемен, которые пришли в жизнь калмыцкого народа вместе с Советской властью» [Лиджиева-Бадмаева 1982, 106]. Этот автор также не обращался к тексту тех же «Пионерских частушек» Эрендженова. Несмотря на то, что в своей монографии «Калмыцкий песенный фольклор» современный фольклорист Н.Ц. Биткеев указал, что «появляются все новые и новые частушки», ни одна из частушек - ни старая, ни новая - в его исследовании не представлена, их анализ отсутствует [Биткеев 2005, 60].
Калмыцкая поэзия 1930-х гг. характеризуется активным освоением новых жанров, экспериментальным поиском новых форм, в том числе под влиянием национального устного народного творчества, русского фольклора и литературы, - басня, баллада, колыбельная песня [Ханинова 2018, 58-68; Ханинова 2019, 194-206; Ханинова 2020, 187-203]. Одним из таких нововведений стал жанр литературной частушки. Термин «частушка» в калмыцком фольклоре и литературе передавался русским термином с усечением окончания (‘частушк’) или во множественном числе с добавлением окончания (‘частушке’). Так, лишь в одном из послевоенных сборников калмыцких песен, составленном Б. Джимбиновым, опубликован единственный образец жанра, озаглавленный просто «Частушке» (‘Частушки’). «Этцн морнд гуудл боэдв? / Элстэ Базрт мал идшлдв? / Угатэ куунэ унн Батлдв? / Усна хэрэр керм гуудв? // Дегд цаБань киртэд оддг, / Деегур санан зелэд хуврдг, / Дорд узгин салькн / Деед узгтэн бард г. // УцБн дааБн гидгнь / Тоглэд, наадад йовна! / Угатя кун гидгнь / Турэд олсэд йов-нал. // Ац, ац дотрас / Арат мектэ болдг, / Буки эн орчлцгас / Байн ховдг болдг» [Дуулич, теегм, дуул 1958, 318]. Текст составлен из четырех куплетов-четверостиший, организованных разными видами анафоры - парной, сплошной, перекрестной, синтаксической. По содержанию это социально-политические частушки. В первой строфе звучат риторические вопросы: у тощего коня возможен ли бег? На песке разве пасут скот? Правда бедняка востребована ли? По мелководью плывет ли корабль? На все эти риторические вопросы в следующих строфах следует утверждение, что бедняк всегда голоден, из зверей хитрее всего лиса, жадней всего на свете богач. Использован параллелизм, характерный для частушки: мир природы и мир человека.
В довоенном сборнике «Народное творчество Калмыкии» опубликованы ранние лирические «Частушки», записанные экспедицией в 1929 г, в переводе К. Новоспасского. «Дальней дороги не бойся - / Двое коней довезут. / Сомненья, тревоги - не бойся - / Два сердца друг друга найдут. / Камыш среднего озера / Косили мы, напевая. / Меня полюбила ты крепко, / Могу ли я не любить? / Дул северный ветер резкий, / А мне он казался южным, / Я шума не слышал степного, / Я думал - ты возле меня» [Народное творчество Калмыкии 1940, 71]. Тема взаимной любви в этих частушках показана через монолог юноши с помощью отрицательного параллелизма, риторического вопроса. За неимением оригинального текста данных частушек, учитывая приведенный перевод, укажем на их близость содержанием и формой со старинной калмыцкой лирической песней «Бичкн арлин хулен» (‘Камыш маленького острова’), например, в следующих строках: «Дунд арлин хулсиг / Дуулн йовж; хадлав. / Дуран курен чамд / Дурго юцгад болхвв. <...> Хол гиж; бича сан, / Хойр морн кургх, / Хоома гиж; бича сан, / Хойр зуркн xaphx» [Дуулич, теегм, дуул 1958, 284-285]. Смысловой перевод: «Камыш среднего озера я, напевая, косил. Могу ли я не любить тебя, полюбившую меня? Не думай, что мы далеки, два коня довезут. Не думай, что все безнадежно, два сердца встретятся».
Как фольклорные, так и литературные частушки калмыцких поэтов, таким образом, не были объектом и предметом исследования. Из четырех обнаруженных нами литературных частушек два текста Пюрви Джидлеева (1913-1940) и Мутула Эрдниева (1914-1940) относятся по тематике к политическим, имеют подзаголовок «частушки». В названии произведения Джидлеева прямо заявлена его адресность: «Элвг эн ящрйлим - эцкр Сталин оглэ» (‘Эту мою счастливую жизнь дал дорогой Сталин’) [Жидлэп П. 1938, 2]. Текст, адресованный руководителю советского государства, приобретает характер магтала-восхваления; здесь нет сатиры, иронии, критики, часто используемых народной частушкой на общественно-политическую тематику. Джидлеевский текст большего объема по сравнению с частушками других авторов, в газетном варианте не разделен на строфы, в книжном варианте 1940 г. имеет куплетную форму [Жидлэп П. 1940, 15-17]. Несмотря на авторскую интенцию в отношении жанра, это стихотворение сложно соотнести с частушкой. Начальная картина всеобщего изобилия, счастливой жизни, стахановского соревнования, воспетая в песне, подводит к рефрену, заявленному в заглавии и выполняющему функцию припева-лозунга: «Элдв эн ящрйлим / Эцкр Сталин оглэ! / Залу чилгр насим / Зальта омгар аксла!» [Жидлип П. 1938, 2]. В смысловом переводе: «Эту счастливую жизнь мне дал дорогой Сталин! Он вдохновил меня в мои молодые годы!». Эти повторы участвуют в построении стихотворения, «выполняют прежде всего функцию структурной, в определенном смысле структурно-смысловой, организации частушечного текста, выделяя наиболее значимые компоненты содержания» [Доброва 2018, 170]. Сопоставление звезд на небе и колхозных посевов, морских волн и

численности колхозного скота дано поэтом в параллелизме с утверждением приоритета результатов социалистического труда. В колхозном табуне много прославленных скакунов, среди метких охотников есть и старики, молодежь готова к защите своей родной страны. Пограничники не пропустят врагов из капиталистического окружения, внутренних же скрытых врагов уничтожит знаменитый сталинский нарком Ежов. Завершает картину авторское заявление о том, что о победной колхозной жизни поют песни, певцы передают привет Сталину в Кремле. Сплошной текст поэта структурирован в основном парной анафорой, перекрестной рифмовкой, мужской рифмой. Отдельные слова (амбары, колхоз, стахановцы, граница, пограничники, нарком) являют безэквивалентную лексику, хотя некоторые из них имеются в калмыцком языке (граница = межа, пограничник = ха-Рулч).
Частушка Мутула Эрдниева своим названием «Соохн» (‘Красота’) также указывает на авторское отношение к современной действительности. В содержательном плане она нацелена на политическую оценку советской жизни, семантически близка утверждению «хорошо» по аналогии с поэмой В. Маяковского. В духе времени психологический параллелизм в начальных строках частушки обусловлен сравнением «вечного» Сталина, ведущего народ к лучшей жизни, с живительным солнцем: «'Луилмуд кедсн / Шарй нарн / Жилэкэд узгднэ, / Деерэс халулна. / Жщрйлур котлсн / Моцк Сталин / Зуркнд ивтрнэ, / Сорос зална!» [Эрднин М. 1940, 3]. По мнению Эрдниева, как солнечный жар опаляет весной и летом, так и мудрый сталинский разум подчиняет своей воле все ближнее и дальнее: «Халун заль / Парни толочь / Хавр зун / Хойрхнд цонна, / Хурц, куцкл / Сталине ухань / Хол, оор - / Делгуд таална!» [Эрднин М. 1940, 3]. Для поэта среди звезд нет ничего прекрасней пятиконечной звезды: «Тецгрин оддудиг / Тастнь йээхвчн / Тавн талтайас / Соохнь олдхш!» [Эрднин М. 1940, 3]. В данном контексте она становится символом советской страны и Красной Армии. Поэтому в сравнении с соколами автор не знает никого проворнее, чем соколы Сталина («Сталине харцхс»), те. советские летчики. Как река сильна своими горными истоками, так и Красная Армия («Улан Церг») горда и могуча, защищая страну от врагов. «Уулин орайас / Эклсн йолин / Усна урсхл / Омлйн сурке. / Эшетне омгес / Серж; деврсн / Улан Церг / Омгта болн / Сурте!» [Эрднин М. 1940, 3]. Здесь политическая декларация также связана с именем Сталина, с его ролью и влиянием в жизни советского народа. Текст также отмечен пафосом, лозунгами, декларативностью, восклицательными маркерами. Стихотворение построено «лесенкой», не характерной для частушки, каждая строка состоит из двух слов, анафора носит произвольный характер (в основном парная, сплошная), рифмовка перекрестная, рифма мужская. В двух текстах композиция одночастная со сквозным развитием темы, параллелизм (психологический, синтаксический), образная символика, обусловленная современностью (например, солнце - Сталин, звезды - пятиконечная звезда, соколы - сталинские летчики).
Исследователи отмечают, что народная частушка всегда связана с современностью, отражает события, называет конкретные имена и героев, имеет адресацию, отличается реализмом, экспромтом, экспрессией, обычно небольшим объемом, куплетной строфикой, ритмом, хореическим размером, перекрестной рифмовкой [Лазутин I960; Бахтин 1966; Мешкова 2000; Самоделова 2010]. Те же признаки характеризуют и литературную частушку. Частушки «на общественно-политические темы часто имеют сатирическую направленность» [Зуева 2001, 1193]. Исследованные примеры литературных частушек двух калмыцких поэтов на общественно-политическую тематику, по нашему мнению, не отвечают в полной мере заявленному авторами жанру - эти произведения, скорее, близки песне, гимну, магталу по своему содержанию и форме. Благопожелание выступает как словесная формула, входящая в состав частушки [Мешкова 2011, 100], народной и литературной, как императивная формула, маркированная восклицательными знаками. И частушка, и магтал-восхваление, и йо-рял-благопожелание коммуникативно направлены, нацелены на публичное исполнение. Тем не менее, можно говорить о механизме ассимиляции этих жанров у калмыцких поэтов. Так, Джидлеев уже названием своего произведения провозглашает благопожелание советской действительности, связанной с именем Сталина, раскрывая эту формулу в самом тексте. Эрдниев также в названии «Красота = Хорошо» актуализирует благопожелание, аргументируя этот императив.
Две частушки Басанга Дорджиева (1918-1969) и Санджи Эрдюшева (1912-1943) соотносятся с любовной тематикой. Поэтика заглавия первой из них транслирует диалог юноши и девушки: «Хойр седклин ханьцлБн» (‘Единение двух душ’, 1939). На музыкальное сопровождение указывает развернутый подзаголовок: «(Ковун куукн хойр “Бичкн арлин хулен” гидг дууна айсар дуулх частушк)», «(Юноша и девушка поют частушку на мелодию песни “Камыш маленького острова”)». Упоминание этой народной лирической песни, исполняемой под домбру, свидетельствует о ее популярности среди молодежи. Ср. с указанной ранее калмыцкой частушкой 1929 г. в русском переводе. Восемь куплетов молодые люди поют попеременно, девятый - хором: «Дуулый, иньг, дуулый! / ДуБрад, эр год биилий! / Дурарн ханьцген биди / Дацгин жирбл эдлий!» (‘Споем, друг, споем! Кружась, станцуем! Соединенные любовью, всегда будем благополучны!’) [Дорясин Б. 1939, 54]. Это образец литературной частушки, под пение которой танцуют. Юноша в первом куплете обращается к девушке с признанием, что как только увидел ее, пожелал с ней познакомиться: «Турун чамаг узн / Туслц седклм тусла. / Таньлдхар туунэс нааран / Торуц дацгин санав» [Дорясин Б. 1939, 53]. Девушка тоже признается юноше (по имени Санджи), что готова ответить на его чувство. Санджи рад, что их сердца соединились, а времена запрета на взаимную любовь, подобного черной скале, разрушены. Девушке же нужно согласие родителей, она ожидает их совета: «Болв аав-ээящен / Би зовшэл сурлав. / Эврэннь уханла хамцулх / Эдна селвг кулонов» [Доржип Б. 1939, 53]. Юноша убеждает любимую,
что к ней стремится его сердце, что счастье зовет их. Она соглашается, что перед ними открыты двери в эту счастливую жизнь, их чистые души накрепко соединены: «Узгдсн тер жирблин / Ууднь манд саката. / Хар уга седкл / Хамдан батар хадата» [Доржин Б. 1939, 54]. Юноша, радуясь тому, что мечта его исполнилась, обнимает прекрасную подругу и просит дать окончательное согласие (выйти замуж): «Седкл мини куцв. / Саахн иньгэн теврнэв. / Куцц зов огхичнь, / Куукн, чамасн сурнав» [Доржин Б. 1939, 54]. Она же сообщает ему, что сегодня родители дали согласие, теперь она будет жить с ним в любви.
Эта частушка тоже одночастная, с развернутым сюжетом о знакомстве молодых людей, об их взаимном признании в любви, о согласии родителей на их брак. Прошлое и настоящее показано в контрасте с прежним обычаем создавать семьи по настоянию родителей без взаимного чувства, а ныне для взаимной любви нет никаких преград. Развитие сюжета передано глагольными формами, экспрессия - восклицательными возгласами. В тексте есть анафора сплошная (1-3, 9 куплеты), парная (4, 6-7 куплеты), перекрестная (8 куплет), неполная парная анафора (5 куплет), неполная перекрестная рифмовка, мужская рифма. Среди художественно-изобразительных средств (эпитет красоты - «саахн», сравнение препятствия с крепкой скалой - «хар хад»), встречаются метафоры открытых дверей в счастливую жизнь для влюбленных, зова грядущего счастья, устремленных друг к другу сердец. Если у юноши в частушке есть имя Санджи, то девушка безымянная.
Стихотворение Санджи Эрдюшева «Дурн» (‘Любовь’, 1938) с подзаголовком «частушк» (‘частушка’) близко рассмотренной нами частушке Б. Дорджиева. Оно также состоит из диалога юноши и девушки, при этом автор в примечании к газетному варианту 1939 г. указал, что первой начинает петь девушка, припев же (использовано русское слово «припев» вместо калмыцкого «давтвр») исполняется совместно. Текст в журнальном и газетном вариантах структурирован девятью куплетами-четверостишиями; сплошная анафора, включая припев, есть в начальных куплетах (14), в остальных куплетах - парная (5-6, 8) или неполная анафора (7, 9), припев построен «лесенкой». В современном переиздании этого произведения поэта снят подзаголовок, а припев не обозначен [Поэзия Калмыкии 2009, 69]. Припев в авторских вариантах несколько различается. В журнальной публикации: «Иовий-йовий, / йовхмн, / Иовн йовж; / куундхмн. / Дурн-дури / - дурнлм, / Дурна ашнь - / ящрЬллм» [Эрдуша С. 1938, 34]. В смысловом переводе: «Пойдем, пойдем, пойдем, / Будем идти и разговаривать. / Любовь-любовь - моя любовь, / Итог любви - мое счастье». В газетной публикации актуализирована музыкальность жанра: «Дуу-лий, дуулий, дуулия, / Дуулн йовж; кундия. / Дурн, дурн, дурнлм, / Дурна ашнь - ящрЬллм» [Эрдуша С. 1939, 4]. В смысловом переводе: «Споем, споем, споем, / Будем петь и разговаривать. / Любовь, любовь, моя любовь, / Итог любви - мое счастье». Обычно калмыцкие частушки пелись под аккомпанемент домбры.
В начале частушки девушка радуется прохладе вечера, тому, что она идет под руку с любимым человеком. Он отвечает ей, что над ними светит месяц, а перед ним сияет ее лицо: «Оми узг тапас / Орал cap шайана, / Оцгта чини чирэчн / Омнм ирж; мандлна» [Эрдуша С. 1938, 34]. Традиционно калмыцкое фольклорное сравнение красоты девушки с луной. Девушка, обращаясь к другу, признается, что хотела бы ласково обнять его. Если она упоминает о зеленой траве под ногами, то он поет о том, что тихо веет ветер, роняет ветки в саду, что его мысли находят отзвук в ее сердце. Для девушки в ее думах только он, отдавший ей свою любовь. Описание юношей звездной ночи с вечерней Венерой, самой значимой из «перемигивающихся» на небе звезд, символизирует также древнеримскую богиню любви. Так в произведение калмыцкого поэта вводится имагологический образ-символ, расширяя ассоциативное поле: «Ойтрйуйин у айуд / Олп одд чирмлднэ, / Алькаснь болвчн теднэс / Асхн цолвц ончта» [Эрдушэ С. 1938, 35-36]. Девушка напоминает юноше калмыцкую пословицу, что гость всегда уходит, ливень всегда заканчивается, поэтому нужно прощаться, договориться о будущей встрече. Подхватывая иносказание любимой, юноша отвечает: «Усэрэд орсн хурт / Уняртж; нойан кокрнэ, / Чамла харйсн мини / Чеежм сарулж; уудна» [Эрдушэ С. 1938, 36]. В смысловом переводе: «После затяжного мелкого дождя трава зеленеет, после встречи с тобой душа моя светлеет и ширится». Характерный для частушки психологический параллелизм (гармония в природе и в любящих людях) передает в эстетическом плане красоту мира и взаимной любви. Девушка признается юноше, что взволнованное ее сердце само успокоилось, потому что она радуется, смеясь, встрече с ним. Заключительный припев, спетый дуэтом, подтверждает это в журнальном варианте последней строки: «Дурна ашнь - энлм!» [Эрдушэ С. 1938, 37]. В смысловом переводе: «Итог любви - в этом!». Газетный вариант отличается небольшой стилистической правкой автора. Такое открытое взаимное признание в чувствах демонстрирует новое в отношениях юноши и девушки, поскольку для калмыцкой ментальности характерны сдержанность, стеснительность, немногословность в проявлении и выражении любви.
Из всех рассмотренных нами литературных частушек современным поэтом Александром Скакуновым переведена частушка Санджи Эрдюшева. Обратим внимание на то, что при публикации снято жанровое определение автора, не учтена диалогическая природа частушки, первенство девушки в дуэте. Возможно, некачественный подстрочник повлиял на деформацию исходного текста и превратил частушку в обычную лирическую песню, которую поет юноша, те. в монологическое признание в любви. В переводе припев присутствует во втором четверостишии и в конце произведения (без обозначения, что это припев). Русский перевод ориентируется на журнальный вариант автора. У переводчика есть многочисленные неточности, стилистические погрешности в тексте, снижающие эстетический уровень оригинала. Например: «Когда же ночи сгусток сник / Предутренней порою, / Твой на луну похожий лик / Зажегся предо мною» или «Шумит, рез-

вится ветерок, / Срывая с веток листья. / А мыслям нашим невдомек, / Что души в них слилися» [Эрдюшев 2018, 89]. Есть пример двусмысленности эротического плана: «Трава зеленая ковром / Под ноги нам ложится. / Как хорошо нам быть вдвоем / И воедино слиться» [Эрдюшев 2018, 88]. Не обошлось у переводчика и без поэтических штампов: «Сердце трепещет любовью, / Счастьем пылает душа» [Эрдюшев 2018, 88, 89].
Влияние калмыцкой народной частушки на создание и формирование литературной частушки в калмыцкой лирике XX в. не удается проследить также в связи с малым количеством таких фольклорных материалов в опубликованном виде. Кроме того, имеющиеся в фонде Калмыцкого научного центра РАН фонозаписи калмыцких народных частушек, собранных в разные годы фольклористами республики, не введены еще в научный оборот. К тому же отдельные фонообразцы, записанные в начале 1980-х гг, свидетельствуют о том, что некоторые народные исполнители, судя по сведениям специалистов, одни и те же тексты считали то частушками, то лирическими песнями, например, «Мендря» (имя собственное женское), «Намчта торйн альчур» (‘Узорчатый шелковый платок’) [Научный архив КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 2]. Это говорит либо о размывании жанровых границ в современном восприятии информантов, либо о существовании вариантов разных жанров. Так, в песне «Мендря» юноша, подарившей девушке туфли, обращается к ней с мольбой сказать сегодня, выйдет или не выйдет она за него замуж: «Мацйдур гиБэд келхнчэ, / Эндр гиБэд келхнчэ, / Однав гиЬдд келхнчэ, / Одхшв гиБэд келхнчэ» [Биткеев 2005, 197]. Припев при этом не имеет смыслового значения, представляя собой звуковой набор: «Халла лурли лудда вила, / Халла да лудда вила» [Биткеев 2005, 196]. Весь текст строится на рефрене (подарок девушке), вместе с тем отличается шуточной интонацией в указании на стоимость туфель (40 рублей), но серьезным вроде бы намерением лирического субъекта жениться. Неполная синтаксическая анафора в песне перемежается с грамматической и лексической эпифорой (например, «гинэлэ», «билэлэ», «келхнчэ» с добавлением распевочного слога «ла», «чэ»).
Другой вариант «Мендри» был в фольклорном репертуаре Н. Данды-ровой, своеобразно исполнявшей эту популярную песню, которая возникла в 30-е гг. прошлого столетия, как пишет современный ученый. «Песня остросюжетна. Социальная заостренность здесь выступает на первый план. Бедняк Амбар любит Мендрю, да и она взаимно. Но власть имущих выше этого. Мендря выходит замуж за богатого Мучку Анаева» [Биткеев 2005, 128]. Вероятно, в этом случае можно говорить о функционировании разных текстов с одинаковым заглавием в виде частушки и песни.
Подводя итоги, заметим, что калмыцкая народная частушка возникла в 1920-х гг. под влиянием русской народной частушки, но остается до сих пор на периферии интересов фольклористов, этнографов, музыковедов. Сохранились фонозаписи фольклорных экспедиций разных лет, не введенные еще в научный оборот, опубликованы лишь немногие примеры калмыцкой частушки.
Список литературы Частушка в калмыцкой лирике XX в.
- Бахтин В.С. Русская частушка // Частушка / вступ. статья, подгот. текста и прим. В.С. Бахтина. 2-е изд. М., 1966. С. 8-52.
- Биткеев Н.Ц. Калмыцкий песенный фольклор. Элиста, 2005.
- Доброва С.И. К вопросу о типологии позиционных, концентрирующих и цепных повторов в фольклорном тексте (на материале частушки) // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2018. № 1 (279). С. 169-175.
- Зуева Т.В. Частушка // Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М., 2001. Стб. 1193-1195.
- История калмыцкой литературы: в 2 т. Т. 2. Элиста, 1980.
- Лазутин С.Г. Русская частушка. Вопросы происхождения и формирования жанра. Воронеж, 1960.
- Лиджиева-Бадмаева Б. Жизнь и творчество, озаренное ленинским светом // Теегин герл. 1982. № 2. С. 105-109.
- Мешкова О.В. Благопожелания и частушечные куплеты: особенности взаимодействия // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 25 (240). Вып. 58. С. 100-103.
- Мешкова О.В. Эстетическая природа частушки: дис. ...к. филол. н.: 10.01.09. Челябинск, 2000.
- Народное творчество Калмыкии / сост. И. Кравченко. Сталинград; Элиста, 1940.
- Научный архив КалмНЦ РАН. Ф. 16. Оп. 2.
- Самоделова Е.А. Фольклор 1920-х - начала 1930-х годов // В поисках новой идеологии: социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920-1930-х годов. М., 2010. С. 155-190.
- Ханинова Р.М. Баллада о войне в калмыцкой поэзии ХХ в. // Новый филологический вестник. 2019. № 1 (48). С. 194-206.
- Ханинова Р.М. Жанр басни в калмыцкой поэзии ХХ в. // Новый филологический вестник. 2018. № 4 (47). С. 58-68.
- Ханинова Р.М. Колыбельная песня в калмыцкой лирике XX-XXI вв. // Новый филологический вестник. 2020. № 1 (52). С. 187-203.
- Частушка / вступ. статья, подгот. текста и прим. В.С. Бахтина. 2-е изд. М., 1966.
- Частушки // Народное творчество Калмыкии / сост. И. Кравченко. Сталинград; Элиста, 1940. С. 71.
- Эрдюшев С. Любовь // Моя Россия, моя Калмыкия!: антология поэзии Калмыкии: в 2 т. Т. 1 / сост. Э.А. Эльдышев, предисл. Б.А. Бичеева. Элиста, 2018. С. 88-89.
- Доржин Б. Хойр седклин ханьцлкн // Доржин Б. Мини стихс. Элст, 1939. Х. 53-54.
- Дуулич, теегм, дуул! Хальмг дуудин хуралу / Жимбин Б. хураж, диглж hарhв. Элст, 1958.
- Жидлэн П. Элвг эн жирклим - эцкр Сталин еглэ // Улан хальмг. 1938. Ию-лин 3. Х. 2.
- Жидлэн П. Элвг эн жирИлим эцкр Сталин еглэ // Жидлэн П. Мана байр: ШYЛГYД. Элст, 1940. Х. 15-17.
- Эрднин М. Сээхн // Улан хальмг. 1940. Майин 5. Х. 3.
- Эрвдшэ С. Дурн // Улан туг. 1938. № 4. Х. 34-37.
- Эрвдшэ С. Дурн // Улан баИчуд. 1939. Майин 27. Х. 4.