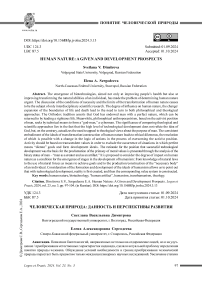Человеческая природа: данность и перспективы развития
Автор: Димитрова С.В., Сергодеева Е.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Понятие человеческой природы: исторические трансформации и современные проблемы
Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Появление биотехнологий, направленных не только на оздоровление людей, но и на улучшение / преобразование естественных характеристик индивида, сделали актуальной проблему определения понятия природы человека. Обсуждение условий необходимости и границ преобразования человеческой природы перестает быть предметом только междисциплинарных научных исследований. Увеличение степени влияния на природу человека, изменение / расширение границ жизни и смерти приводят к необходимости обращения как к философским, так и теологическим подходам. Православная традиция утверждает, что Бог наделил человека совершенной природой, вернуться к которой можно, ведя праведную жизнь. Между тем философский антропоцентризм, основанный на активистской позиции человека, стремится обосновать возможность сформировать техническими средствами «богочеловека», киберчеловека. Значимость сравнения теологических и научных подходов заключается в том, что высокий уровень развития технологий не опровергает идею Бога, а, напротив, актуализирует необходимость обращения к теологическим воззрениям о предназначении человека. Последовательное воплощение идеалов преобразования / конструирования природы человека, приводит к этическим дилеммам, разрешение которых возможно при изменении логики действий, в процессе преодоления активистской позиции. Активность должна основываться на трансцендентных ценностях, чтобы исключить возникновение ситуаций, при которых совершенные средства «диктуют» цели и формируют идеалы развития. Аргументация положения о том, что успешное технологическое развитие выступило основанием для провозглашения первичности нравственных ценностей, представлено через анализ бинарного статуса человека - «человек как творец и как артефакт». В статье обосновывается эвристичность рассмотрения степени воздействия на природу человека в качестве условия развития гуманизма: от знания естественных законов к использованию природных сил как средств для достижения целей и к продуцированию / конструированию «необходимого тела» индивида. Рассмотрение становления и развития идеалов гуманизма позволяет сделать вывод о том, что при технологичном развитии сначала создается реальность, а затем конструируется соответствующая ей система ценностей.
Природа человека, биотехнологии, «человек-артефакт», гуманизм, трансгуманизм, теология
Короткий адрес: https://sciup.org/149147475
IDR: 149147475 | УДК: 124.3 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.3.13
Текст научной статьи Человеческая природа: данность и перспективы развития
DOI:
Цитирование. Димитрова С. В., Сергодеева Е. А. Человеческая природа: данность и перспективы развития // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 3. – С. 97–104. – DOI:
Постижение человеческой природы неизменно сталкивается с богатством, неисчерпаемостью, незавершенностью объекта исследования. Многообразие подходов, аспектов рассмотрения, способов определения человеческой природы указывает на значимость и сложность постижения данной проблемы. Космоцентрическая философия античности рассматривала человека как микрокосм, природа которого гармонирует с устройством мира. Средневековье видит особенность человека в том, что он есть «любимое творение Бога»; Возрождение представляет человека как творца / художника, наделяя его способностью преобразования окружающей действительности. Представители эпохи Просвещения формировали идеалы развития, согласно которым объектом сознательного преобразования является не только окружающая действительность, но человеческая природа. В это время совершенствование человека и преобразование окружающей действительности являются взаимообусловленными процессами. Преобразование внешней природы оказывает влияние на развитие человека, а совершенствование человеческой деятельности выступает основанием для освоения природных процессов.
Постепенно формировалось и занимало господствующее положение технократическое отношение к действительности, согласно которому «...природу можно переделывать, общество и человека можно проектировать. Подобный вариант глубоко укоренен в европейской культуре, по крайней мере начиная с XVII в., со времени возникновения экспериментального естествознания» [Лекторский 2005, 337].
Технократическое / инструменталистское отношение к действительности основывается на убежденности в том, что познание закономерностей мира позволяет использовать природные силы в качестве средств, необходимых для достижения целей человека. Проект эпохи Ренессанса, рассматривающий «природу как мастерскую», воплощается и получает развитие во все последующие периоды, включая современность.
Вместе с тем интенсивность и степень воздействия на окружающую действительность открывают новые горизонты при определении пределов человеческой природы. «Господство» над естественными силами, конструирование и проектирование социумов становятся основанием для возможности продуцировать более «совершенную природу» человека.
Обоснование необходимости, поиск возможностей и обсуждение границ преобразования природы людей актуализируют проблему поиска и понимания сущностных свойств человека. В этой связи важным является принципиальное различие теологических и философских подходов к определению природы человека.
Согласно православному учению в телесной природе воплощен логос – божественное начало, оно неизменно и фундирует гармоничное единство души и тела. Православное богословие отрицает необходимость подавления и умерщвления тела, но утверждает сохранение Божественного в нем, в том числе и через борьбу со страстями. Совершенствование человеческой природы в христианской традиции предполагает обретение и сохранение уже данного, поскольку человеческая природа до грехопадения была «совершенной и обожествленной своим ипостасным союзом с Божественной природой, всецело пронизана энергиями Божественной природы, но сохранила в неприкосновенности свои естественные свойства» [Ларше 2018, 259–260].
В секулярной традиции совершенствование предполагает изменение / расширение возможностей человека, наделение индивида теми качествами, которые не были ему даны от природы. Наиболее последовательное воплощение идеала создания / конструирования совершенного человека стало возможным с появлением биотехнологий, создавших условия для более глубокого преобразования человека. Качественные изменения, приведшие к появлению новых этических дилемм, экзистенциальных рисков, были обусловлены возможностью биотехнологий и их направленностью не только на лечение и облегчение патологических состояний, но и на улучшение способностей здоровых людей, качественное преобразование человеческой природы.
Степень воздействия и скорость возникновения технологий (когнитивных, биотехнологий, нанотехнологий и т. д.), оказывающих влияние на природу людей, приводит к возникновению ситуаций, при которых определение сущности человека «...еще должно быть определено судом и законодательством» [Юдин 2016 web]. Злободневной становится проблема выявления и демаркации границ преобра- зования человеческой природы, чтобы последняя не достигла «скорости убегания» [Дери 2018, 6]. Актуализируется вопрос о том, сохранит ли человек свою природу, уникальность бытия или станет продуктом высокотехнологичных действий.
В связи с этим возникает важная дилемма, определяющая бытийный статус человека, который выступает одновременно как творец и как артефакт. Существенное изменение границ, связанное с расширением роли искусственного, является признаком современного технологичного мира. Природные процессы становятся цивилизационными. «...Природа изменилась, стала социальной: все, что дано человеку, уже пропитано человеческим началом – вплоть до лесов и рек...», – пишет Р. Барт [Барт 1989, 259].
Экспансия искусственной реальности приводит к необходимости определения онтологического статуса артефактов. Поскольку артефакт – это результат человеческой деятельности, то его возникновение и способ существования с необходимостью соотнесены с целями человека и обусловлены возможностью людей создавать и использовать какие-либо средства. Поэтому одним из сущностных свойств артефактов является их функциональность. Функции артефакта являются «... специально заложенными в них существами с убеждениями, желаниями и намерениями» [Бейкер 2011, 57].
Следовательно, возникновение и развитие артефактов суть процессы совершенствования деятельной активности людей, создания беспрецедентных средств и способов воздействия на природный мир. Вместе с тем логика развития целерациональных действий, предполагающая перманентность процессов совершенствования орудий / средств производства, выступает основанием для утраты человеком возможности самостоятельно формулировать цели. Мощные средства диктуют то, к каким целям должны стремиться люди.
Появление техносферы становится основанием для качественно иного, автономного способа существования артефактов. Человек обезличивается, а его желания, мечты, верования расцениваются как ошибочные, подлежащие исключению. Представитель постпостмодернизма Cэмюэлс отмечает, что «...совре- менность указывает на доминирование науки, разума, равенства, индивидуализма, терпимости, но также преобладания безличности, отчуждения, сегрегации, колонизации и социального конформизма» [Samuels 2009, 8].
Последовательное воплощение идеалов эффективности / успешности формирует условия, при которых логика развития средств (артефактов) определяет перспективы дальнейшего развития человека и обществ. Таким образом, расширение потенциала целерациональных действий сопряжено с лишением возможности человека ставить «великие» цели.
Между тем процессы подчинения целей логике средств становятся основанием для изменения самого человека. Появление и развитие биотехнологий привело к возникновению идей трансгуманизма, согласно которым необходимо улучшать и преобразовывать природу человека, создавая возможности как для продления жизни индивида, так и для его бессмертия.
Тем самым возникает «программа действий», направленная на конструирование / продуцирование человека. Особенность современной ситуации заключается в том, что изменения человека касаются не только его мировоззрения, проблем манипулирования сознанием, но и самого факта существования человека, констатации его жизни / смерти. Определение экзистенциальных границ становится биополитической проблемой: «...сегодня жизнь и смерть являются не собственно научными понятиями, но понятиями политическими, которые в силу своей политической природы приобретают точное значение лишь в результате специального решения» [Агамбен 2011, 208].
Все чаще возникают ситуации, при которых состояние жизни и смерти человека рассматривается не как божественный дар и даже не как результат природной эволюции, а как медико-социальный конструкт. Уровень технологического развития, совокупность правовых норм и действующих законов определяют факт существования / несуществования индивида.
Например, развитие перинатальной медицины в России позволило изменить критерии жизнеспособности новорожденных. Они становятся конвенциальной истиной, выражен- ной в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Между тем принятие / непринятие рекомендованных критериев жизнеспособности отдельной страной основывается как на уровне развития медицины и технической оснащенности учреждений здравоохранения, так и на правовых нормах, культурно-ценностных ориентирах, религиозных и этических идеалах. Таким образом, жизнь новорожденных детей представляет собой артефакт – искусственно-созданное состояние, которое есть результат большого количества высококвалифицированных действий. Выхаживание новорожденных с «экстремально низкой» массой тела, искусственное создание жизни (ЭКО), проведение реанимационных мероприятий и поддержание жизнеспособности индивида – это конструирование, творение человека / мира, существование которого становится возможным благодаря развитию биотехнологий.
Важно отметить, что изменение биологических и медицинских параметров индивида влечет за собой трансформацию социальных институтов, появление новых профессий и отраслей знания, оказывая влияние на ценностные, правовые установки, расширяя мировоззрение людей. Прогнозирование рисков, стремление преодолеть этические дихотомии, изменение экзистенциальных границ и, как следствие, утрата прежней идентичности человеком не исключают того, что закономерной и обсуждаемой становится идея творения совершенного человека – постчеловека, киберчеловека. «В определенной степени футуристические сценарии “улучшения” человека так или иначе пытаются сформировать “новое религиозное сознание”, продемонстрировать богоподобие человека техническими средствами, найти оправдание новой техноэтике, в том числе неограниченным вмешательствам в генетическую структуру человека, вызывающим тревогу у специалистов» [Буйнякова 2017, 130].
Высокая технологичность и продуктивность действий становится основанием для формирования и сосуществования человека-артефакта и человека-творца. Совершенствование профессиональных навыков, развитие познавательных способностей, стремление повышать эффективность своих действий выступают условием возникновения ситуаций, при которых люди становятся создателями новых типов реальностей. При этом ценностные установки человека не оказывают влияния на то, какая реальность будет сконструирована, «...современные “проектные” биотехнологии (редактирование генома, усиление неирокогнитивных способностей человека, технологии продления жизни человека и т. д.) и медицинские технологии (трансплантация органов, экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство и т. д.) затрагивают главное существо жизни – ее зарождение и прекращение, – а также то обстоятельство, что при этом происходит доминирование экспертного (биотехнологического) знания над профанным (знанием “обычного” человека)...» [Резник 2018, 99].
Экспликация логики целерационального технологичного развития позволяет выявить следующие этапы: создание и совершенных средств для достижения целей; подчинение целей логике средств; конструирование / творение новых типов реальности с автономной, противостоящей человеку логикой развития.
Возникновение «медикалистских реальностей», являющихся продуктами высокотехнологических действий, формирует необходимость разработки новых этических принципов, форм ответственности, ценностных установок. Важно отметить, что стремление выработать нравственные принципы, соответствующие уже возникшим типам реальности, является ничем иным, как продолжением автономной (по отношению к действующему человеку) логики развития. Разработка соглашений, рациональных норм и положений, определяющих экзистенциальные границы, указывает на то, что уровень развития действий человека нуждается в других нравственных основаниях и критериях определения «успешности».
Продуктивность человеческих действий, возможность конструировать / творить новые типы реальности, определять границы жизни и смерти востребует обращение к религиозным ценностям, к моральным нормам, основанным на признании абсолютных ценностей. Важно, что к такого рода утверждениям приходят представители «научного сообщества». «Полнота научного знания о том, “что есть человек”, невозможна, на наш взгляд, без теоло- гического осмысления научных достижений биологии и медицины (иными словами, биомедицины). Необходимость богословского высказывания становится особенно очевидна, если признать, что возникают гуманитарные проблемы, которые не были характерными в предыдущие периоды смены технологических укладов... Сегодня так называемые биотехнологические возможности человека позволяют ему вплотную подойти к изменению его собственных биологических и, как следствие, антропологических свойств», – отмечает доктор медицинских наук, профессор О.Н. Резник [Резник 2018, 92].
Несомненным является и то, что проблема определения границ, при наличии возможностей «улучшения» человеческой природы, анализируется не только в рамках междисциплинарных научных исследований, но и становится предметом общественного обсуждения.
Новое понимание гуманизма. Между тем актуальной и значимой становится проблема возникновения нового понимания гуманизма. В современных высокотехнологичных демократических обществах воплощаются идеалы гуманизма, которые стали формироваться в эпоху Возрождения. Звучит призыв «к доблести и знанью», к реализации божественной сущности человека посредством активных, творческих действий. Натуралистический пантеизм эпохи Ренессанса фундировал «...достижение высшего предела земного человеческого совершенства», которое не противоречит божественному началу, а напротив, актуализирует его [Горфункель 1977, 64]. Дальнейшее развитие содержания понятия «гуманизм» было обусловлено формированием антропоцентристкой позиции, согласно которой все существующее, будь то природные силы или социальные процессы, может быть использовано как средство для повышения продуктивности действий, а возможность самореализации человека обусловлена эффективностью, успешностью его действий. Следовательно, чем результативные действия человека, тем в большей степени он себя реализовал, утвердив уникальность собственного бытия.
Для реализации идеалов гуманизма, сопряженных с возможностью достижения людьми собственных целей, разрабатываются и используются знания о природе и о человеке. Возникновение объективных знаний о человеке, становление гуманитарных наук сформировали общезначимые критерии, позволяющие ранжировать людей не только по их социально значимым поступкам, но и выявлять патологию, степень отклонения от естественных параметров. Констатация фактов отклонения от нормы, выявление патологии формируют необходимость лечения, улучшения природы человека.
Тем самым расширение / улучшение естественных возможностей человека является условием для перехода от идеалов гуманизма к трансгуманизму. Последователи трансгуманизма используют определение Дж. Хаксли, стоявшего у истоков «эволюционного гуманизма». «Трансгуманизм – это рациональное, основанное на осмыслении достижении и перспектив науки мировоззрение, которое признает возможность и желательность фундаментальных изменении в положении человека с помощью передовых технологии с целью ликвидировать страдания, старение и смерть и значительно усилить физические, умственные и психологические возможности человека» [Трансгуманизм 2014 web].
Возможность и право воздействовать на человеческую природу находят свое логическое выражение в «продуцировании» социально необходимого человеческого тела – «эффективного деятеля», «универсального солдата» и т. д. Следовательно, степени воздействия на человека тоже могут быть представлены как этапы становления гуманизма: от просвещения (знания о естественных законах) к преобразованию (использованию природных сил как средства для достижения целей) и далее к продуцированию / конструированию не только необходимого стиля мышления, мировоззрения, но и тела человека.
Между тем интенции развития трансгуманизма заключаются в стремлении к обретению человеком бессмертия: биотехнологии должны «победить» смерть. Вновь проявляется амбивалентная природа людей: с одной стороны, индивид есть продукт биотехнологий, с другой – человек-творец, создающий средства, способные привести к бессмертию. Статус человека-творца ведет к разработке принципов гуманизма, в которых базовыми ценностями становятся независимость людей от сверхъестественных сил и возможность человека «...жить нравственной жизнью, ведущей к личностной реализации и устремленной к большему благу для всего человечества, а также нашу ответственность за это» [Гуманистический манифест III 2003 web]. Главным условием достижения гуманистических целей является научное знание, на основе которого вырабатываются эффективные и достаточные методы решения проблем.
Новый тип гуманизма, призывающий человека победить смерть и стать творцом без Бога, воплощается в идеях бодицентристской культуры. «Новое чувство тела», перманентность усилий, направленных на улучшение / сохранение естественных данных исключают возможность преодолеть границы физической телесности, трансцендировать к духовному.
Тем самым формируются ситуации, при которых преодоление этических дилемм требует разграничения гуманизма и естественного нравственного закона. «Христианское понятие “естественного нравственного закона” от общепринятого понятия “гуманизма” отличается только предполагаемой природой, то есть тем, что гуманизм считается социально обусловленным, порожденным социальным опытом явлением, а естественный нравственный закон считается вложенным изначально в душу каждого человека стремлением к порядку и всяческому добру. Так как, с христианской точки зрения, недостаточность естественного нравственного закона для достижения христианской нормы человеческой нравственности очевидна, то очевидна и недостаточность “гуманизма” как основы гуманитарной сферы, то есть сферы человеческих отношений и человеческого бытия» [Гуманизм 2005 web]. Таким образом, с точки зрения православного подхода естественный нравственный закон и гуманизм имеют различные источники возникновения.
Существование отдельного человека и целых обществ подчиняется принципу достижения бессмертия, то есть борьбе со смертью, парадоксальным образом исключая любовь к жизни. Мортальность, нарциссизм, бодицент-ризм, превращение обществ в «один большой госпиталь», в котором идет борьба со смертью, становятся основными характеристиками современной культуры. Отметим, что высокий уровень науки и техники привел к возникновению ситуаций, при которых отсутствуют цели, соответствующие уровню средств. Возможность преобразовывать и продуцировать индивида, стремление к бессмертию нивелирует необходимость поиска смысла жизни. Такое положение дел делает экзистенциально значимым обращение к другим типам культуры, формам сознания, ориентированным на размышление о смыслах и предназначении человека. В условиях современной действительности интенсивность, масштабы воздействия технологий на окружающий мир и человека выступают основанием для обращения к трансцендентным формам осмысления.
Расширение экзистенциальных границ, которое стало возможным благодаря развитию биотехнологий, может привести к утрате уникальности человеческого бытия. Следовательно, должны меняться нормы, позволяющие определять способы существования и перспективы развития природы человека. «Святые отцы отождествляют здоровье человека с состоянием совершенства, к которому он предназначен естественным образом, ибо совершенство для человеческого существа заключается в обожении и в самой его природе заложено стать богом по благодати» [Ларше 2018, 13].
Таким образом, эффективное успешное развитие разного рода технологий делает актуальной задачу поиска синергии, такого типа единства, при котором развитие фундировано необходимостью актуализации абсолютных ценностей.
Горфукель 1977 – Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М.: Мысль, 1977.
Гуманизм 2005 web – Гуманизм [Энциклопедия: Азбука веры] //
Гуманистический манифест III 2003 web – Гуманистический манифест III [Аналитический портал «Гуманитарные технологии»] //
Дери 2008 – Дери М. Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков. Екатеринбург: Ультра: Культура; М.: АСТ, 2008.
Ларше 2018 – Ларше Ж-К. Исцеление духовных болезней. Введение в аскетическую традицию Православной Церкви. Сергиев Посад: Изд-во МДА, 2018.
Лекторский 2005 – Лекторский В.А. Деятельностный подход: кризис или возрождение? // Наука глазами гуманитария. М.: Прогресс: Традиция, 2005. С. 327–342.
Резник 2018 – Резник О.Н. Теология и новые биомедицинские технологии // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. Т. 19. Вып. 1. СПб.: Изд-во РХГА, 2018. С. 91–107.
Трансгуманизм 2014 web – Трансгуманизм [Сайт Российского трансгуманистического движения] // content/view/70/94/
Юдин 2016 web – Юдин Б.Г. Человек как объект, потребитель и мишень технонауки [Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2016. № 5 (сент. – окт.). С. 5–22] // Yudin_Human-Being-Technoscience
Samuels 2009 – Samuels R. New Media, Cultural Studies, and Critical Theory After Postmodernism. Automodernity from Zizek to Laclau. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2009.
Список литературы Человеческая природа: данность и перспективы развития
- Агамбен 2011 - Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М.: Европа, 2011.
- Барт 1989 - Барт Р. Структурализм как деятельность // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 253-262.
- Бейкер 2011 - Бейкер Р. Л. Онтологическая значимость артефактов // Эпистемология и философия науки. 2011. Т. 28, № 2. С. 55-63.
- Буйнякова 2017 - Буйнякова И. С. «Дизайнерские младенцы»: социально-этические проблемы биотехнологического проектирования будущих детей // Научные ведомости БелГУ Серия: Философия. Социология. Право. 2017. № 10 (259). Вып. 40. С. 130-139.
- Горфукель 1977 - Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М.: Мысль, 1977.
- Гуманизм 2005 web - Гуманизм [Энциклопедия: Азбука веры] // https://azbyka.ru/gumanizm
- Гуманистический манифест III 2003 web - Гуманистический манифест III [Аналитический портал «Гуманитарные технологии»] // https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5469/5472
- Дери 2008 - Дери М. Скорость убегания: Кибер-культура на рубеже веков. Екатеринбург: Ультра: Культура; М.: АСТ, 2008.
- Ларше 2018 - Ларше Ж-К. Исцеление духовных болезней. Введение в аскетическую традицию Православной Церкви. Сергиев Посад: Изд-во МДА, 2018.
- Лекторский 2005 - Лекторский В.А. Деятель-ностный подход: кризис или возрождение? // Наука глазами гуманитария. М.: Прогресс: Традиция, 2005. С.327-342.
- Резник 2018 - Резник О.Н. Теология и новые биомедицинские технологии // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. Т. 19. Вып. 1. СПб.: Изд-во РХГА, 2018. С. 91-107.
- Трансгуманизм 2014 web - Трансгуманизм [Сайт Российского трансгуманистического движения] // http://www.transhumanism-russia.ru/ content/view/70/94/
- Юдин 2016 web - Юдин Б.Г. Человек как объект, потребитель и мишень технонауки [Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2016. № 5 (сент. - окт.). С. 5-22] // http: //zpu-j ournal. ru/e -zpu/2016/5/
- Yudin_Human-Being-Technoscience Samuels 2009 - Samuels R. New Media, Cultural Studies, and Critical Theory After Postmodernism. Automodernity from Zizek to Laclau. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2009.